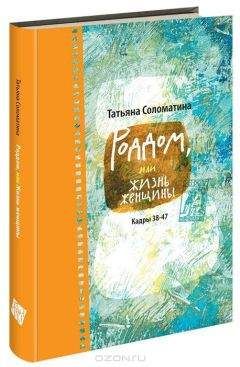Заехала не на ту площадку. Раньше же с мужем ездила. Особо за дорогой не следила. Всегда есть о чём поссориться. Указатели — хрен разберёшь. Вроде как тут на рынок заезжали. Или нет? Какие-то грузовики, железо, блоки. Куда ехать? Где здесь розетки?! Народу никого. Она головой покрутила да из машины, поперёк гружёных фур кое-как поставленной, и вышла. Попёрлась к погрузчику. Так сказать, пошла за движущимся объектом. Где движущийся объект — там должен быть человек, управляющий движением. И, значит, у него можно поинтересоваться, где тут на рынке розетки, без которых ей ремонт — не ремонт, муж — не муж, и вообще — жизнь не мила!
Водитель погрузчика разгружает «шаланду», гружённую блоками. Один человек на площадке. На стоянке грузовиков не было ни одного человека, кроме этого водителя. И она бежит к погрузчику, разгружающему «шаланду», гружённую блоками. Спросить у работяги, где розетки! Он в этот момент снимает очередной поддон с кузова «шаланды». А тут эта беременная с огромным пузом. На огромном же нерве из-за того, что муж не олигарх, жизнь не удалась, ремонт не такой, как хотелось, и вот эти розетки!.. Там же рёв стоит. Водила погрузчика никаких людей не ожидает. В такие зоны обывателям и въезд, и вход строго запрещены. Что должно быть обеспечено владельцами строительных рынков. Баба понимает, что человек её не услышит. И хочет, чтобы он её увидел. Внимание обратил. Подбегает близко, орёт во всю мочь: «Подскажите мне!..» Водила от неожиданности дёрнулся, зацепился поддоном за борт грузовика, поддон качнулся, ещё раз качнулся, мир замер… Мужик вспомнил всех святых по матушке… Глаза закрыл… Поддон ещё раз качнулся — и чуда не произошло. Поддон с блоками рухнул. На беременную бабу, алкавшую каких-то ей одной известных розеток. Блоки падали, как кости гигантского чудовищного домино. Один блок зацепил голову, другой — плечо, третий — грудь… Водила не помнил, куда и как бежал. К ней было метнулся — тормознул: вспомнилось, что трогать нельзя. К телефону — начальнику звонить. Начальник — в «скорую»… «скорая» — ментам. Мы — ближайшая больница к этой части МКАД. Два часа кроили-штопали-лили бригадой нейрохирургов, травматологов, торакальных и анестезиологов-реаниматологов. Ну и вот. Время смерти четырнадцать тридцать пять. Плод женского пола, живой, доношенный, весом три семьсот, ростом пятьдесят четыре сантиметра, родился в рану в четырнадцать тридцать пять. Слава кесарю.
— Купила розетки!.. — И Бульдог ещё раз завернул такое выражение, что любой водила погрузчика позавидовал бы. Но уже без отчаяния завернул. Со смирением безнадёги. — Запомни, пацан! — обратился он к Денисову, — женишься — с бабой не ругайся. Делай всё по уму. А не можешь по уму и не можешь уступить и не скандалить — на цепь её. Или наручниками к батарее. Вот теперь мужик с двумя детьми и без бабы. Сдались тебе, Люсенька, эти макароны! — Он нервно хохотнул, но тут же окоротил себя, откашлялся и продолжил строго, по-деловому: — Через двадцать минут у меня в кабинете. Такие протоколы не каждый день продиктуют. Учись, пока я жив. Учителя не бессмертны.
Бульдог всхлипнул, зашвырнул окурок в мусорку и ушёл. Денисов и Ельский посмотрели друг на друга — и молча разошлись.
Матвеева кремировали на третий день. Как он и хотел. В землю — ни за что не желал. Чтобы жёны с детьми на могиле не дрались.
На кремации присутствовала вся больница. И весь онкодиспансер. И все его жёны. И все его дети. Все его любовницы и все его ученики. Некоторые даже из других городов и стран прилетели.
Мальцева на поминки не пошла. Оказалось, что это очень удобно — быть матерью. Всегда можно прикрыться дочуркой. «Вы что, Татьяна Георгиевна, на поминки не пойдёте?! — Простите, но у меня маленький ребёнок!»
В итоге всё равно все — Панин, Святогорский, Ельский, Мальцева, Денисов, Поцелуева с Родиным, Марго, Тыдыбыр и многие другие — сползлись в ресторанчик. Не столько помянуть Матвеева, сколько убедиться в том, что сами живы. А Матвеев… Ну что Матвеев. Матвеев — это эпоха. И эта эпоха ушла. Ушла красиво. Эта ушла — другая пришла.
— Я вот думаю, какая судьба уготована этой новорождённой девчушке? — пустился в размышления изрядно захмелевший уже Святогорский. — Мамашу дурную бетонными блоками в отбивную смолотило, а той — хоть бы хны. Кутузов, вот, с перерывом в четырнадцать лет в голову ранен! И — выжил! А с ранениями в голову во времена Очакова и покоренья Крыма не выживали! Читаешь — только руки и ноги ещё могут отремонтировать или ампутировать. Голова или брюхо — всё, привет! А тут в голову — раз! — выжил. В голову через четырнадцать лет — два! — выжил! Так ведь вот ещё какой случай: вторая пуля — та, что через четырнадцать лет, — прошла по старому каналу! Казуистика! Или по-русски выражаясь: этого не может быть, потому что этого не может быть никогда! Но — было! Лекарь Мюсо знаете как сказал? «Должно полагать, что судьба назначает Кутузова к чему-нибудь великому, ибо он остался жив после двух ран, смертельных по всем правилам науки медицинской». Дважды пули промчались сквозь голову Кутузова! По одной и той же траектории! Причём миллиметр отклонения от раневого канала — дважды повторенного! — он был бы либо мёртв, либо слабоумен, либо слеп!
— Так он же вроде как не видел на один глаз. Даже чёрную повязку носил, нет? — встрепенулась Марго.
— Марго, Кутузов не был слеп! Отменно видел обоими глазами. Разве что «искривел» на правый глаз, как тогда писали лепилы в протоколах. Дефект косметический, а не функциональный. Бабы его и кривого любили, как нашего доцента Матвеева бабы любили — любого! — Аркадий Петрович шумно вздохнул и протёр глаза. И продолжил спокойно: — Чёрную повязку на глазу носил актёр Ильинский в фильме «Гусарская баллада». Вот. Все бабы — дуры!
— Какую чушь мы несём! — вмешался Панин.
Да, сегодня он присутствовал. Это был тот самый редкий случай. Случай был действительно очень редкий. У Панина и в мыслях не было являться сюда только потому, что здесь Мальцева. Он хотел помянуть Матвеева с теми, кто его действительно знал, действительно уважал, действительно любил. Слегка припозднился. Потому что после крематория в министерство на совещание рванул, будь оно неладно! Ещё один АИК для родной больницы выбил. Пришёл, а тут этот интерн, как живой, сука!.. Даже память картинку подкинула: двадцать третье февраля почти два года назад, гульки в изоляторе обсервационного отделения, Танька — ещё завобсервацией, он — ещё начмед; она уходит с интерном; он подрывается — «вы куда?!» — доцент Матвеев властно придавливает его обратно — «сидеть!»[51].
И такая тоска накатила на Семёна Ильича, что он глухо рыдал в кабацком туалете. Плакал о том, что всё так нелепо. Смерть молодой бабы по совершеннейшей глупости. Смерть Матвеева от рака мочевого пузыря. Врач, мужик, у которого всегда по этой, мочеполовой, части всё было в полном ажуре, — и от рака мочевого пузыря! Жизнь его самого, Панина. Долгая жизнь с Варей, совершенно ему ненужная. Дети его с Варей, бесконечно ему вдруг чужие и далёкие. Вечная двойная жизнь в многослойной лжи. Танька, родившая от него, но холодная…
Неизвестно, долго ли он сидел в кабинке кабацкого нужника, но в дверь постучали и нормальным таким, понимающим мужским голосом не то чтобы спросили, а скорее констатировали:
— Семён Ильич, вы там живой?!
— Денисов, не дождёшься! — рявкнул Панин.
Но почему-то стало легче.
Водителя погрузчика приговорили к пяти годам за непреднамеренное убийство по неосторожности. Как-то так… Владелец рынка отделался крупными взятками. И рынок не закрыли. И опасную разгрузочную площадку не обустроили по всем правилам, и охрану не усилили. И бабы не перестали устраивать истерики своим мужикам из-за розеток.
И у жены Сергея Волкова (по прозвищу Полуобъём Бедра, или просто Полуобъёмыч) Ксении Ртюфель («…как трюфель, только Ртюфель») действительно оказался поликистоз яичников, а это вполне поддаётся медицинской коррекции.
И Панин, как и прежде, любил в своей любви к Таньке Мальцевой прежде всего саму свою любовь и лишь потом — саму Таньку Мальцеву.
И росла Муся Панина, обожаемая отцом совершенно беззаветно и потому могущая по полному праву именоваться именно что «плодом любви» — для Панина (и была единственной настоящей любовью Таньки Мальцевой).
И Ельский берёг свою беременную молодую жену до опасения последней за психику мужа.
И Марго понятия не имела, выходить ей замуж за американца или…
И всем им ещё очень долгое время чудился доцент Матвеев. Бывало, обернёшься в коридоре — и вот же он, только что был… Только готовился шпильку воткнуть или что-то язвительное отвесить. Или придёт баба с гинекологической проблемой, наберёшь по привычке номер… И становится больно.
Очень больно.
Но если тебе больно, ты — живой.
И значит, всё ещё возможно.