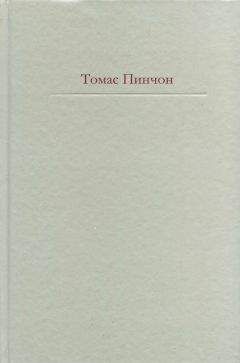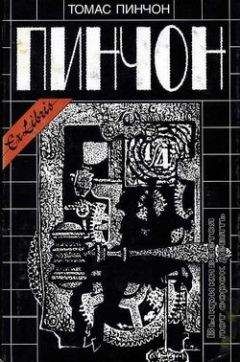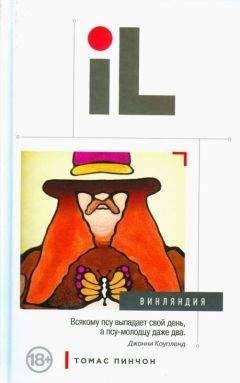Она ему рассказывает, почему одна — более-менее, — почему не может теперь вернуться, и лицо ее где-то не здесь, выписано по холсту, вывешено вместе с другими выжившими там, в домике возле Дёйндитта, лишь свидетельствует игре в Печь — века минуют обагренными облаками, затемняя неощутимо тонкий слой лака меж нею и Пиратом, даруя ей щит безмятежности, что ей нужна, классической неуместности…
— Но куда же вы пойдете? — У обоих руки в карманах, оба туго обмотаны шарфами, камни, что оставила за собой вода, черно блестят, будто надпись во сне, которая вот-вот — и станет разборчива, отпечатанная вдоль этого берега, всякий ее фрагмент пока столь поразительно ясен…
— Не знаю. А куда лучше?
— В «Белое явление»? — предложил Пират.
— «Белое явление» — это хорошо, — сказала она и шагнула в пустоту…
— Осби, я ненормальный? — Снежной ночью, пять ракетных бомб с полудня, дрожа на кухне, поздней и под свечой, Осби Щипчон, недоумочный гений этого дома, настолько углубился в свое вечернее свидание с мускатным орехом, что вопрос звучит вполне уместно, в тусклом углу бледная цементная Юнгфрау присела враскоряку, флегматичная и, судя по всему, раздраженная.
— Конечно, конечно, — грит Осби, текуче дрыгнув пальцами и запястьем по мотивам того, как Бела Лугоши вручал некий бокал вина с «малинкой» какому-то дурню, молоденькому герою в «Белом зомби» — первом фильме, увиденном Осби в жизни и, в некотором смысле, последнем, что представлен в его Списке Всех Времен наряду с «Сыном Франкенштейна», «Уродцами», «Летим в Рио» и, быть может, «Дамбо», который он ходил смотреть на Оксфорд-стрит вчера вечером, но на середине заметил: толстеньким хоботом глазастого слоненка обернуто вовсе не волшебное перышко, а кислая пурпурно-зеленая физиономия мистера Эрнеста Бевина, — и решил, что благоразумнее отбыть из зала. — Нет, — поскольку Пират тем временем неверно истолковал слова Осби, каковы бы те ни были, — не «конечно, ты ненормальный, Апереткин», отнюдь не это…
— Тогда что, — спрашивает Пират, когда молчание Осби переваливает за минутную отметку.
— А? — грит Осби.
Пират в раздумьях и сомненьях, вот что. Все припоминает, что Катье теперь избегает любых упоминаний о домике в лесу. Она в него заглянула — и выглянула, но хрустальные стекла истины преломляли все ее слышный слова — часто до слез, — и он не вполне разбирает, что говорится, и уж совсем не допетривает до самого лучистого хрусталя. И впрямь, зачем она покинула Schußstelle 3? Этого нам так и не сообщают. Но время от времени игрокам — в затишье игры либо в кризисе — напомнят, каково оно все-таки, играть по-настоящему — и они после этого уже не смогут продолжать в том же духе… Тут ведь не надо ничего внезапного, эффектного — можно и мягко, — и вне зависимости от счета, числа зрителей, их совокупного желанья, штрафных, назначенных ими либо их Лигами, игрок, осознанно проснувшись, быть может, с жестким, как у юного изолята, пожатьем плеч самой Катье и ее резким шагом, скажет «на хуй» и выйдет из игры, в глухую завязку…
— Ладно, — продолжает он в одиночку, Осби, провалившись в улыбку мечтательного грибника, прокладывает трассу по зрело-женской снежной коже Горной Вершины в углу, только он да ледяной пик в вышине, да синяя ночь… — стало быть, это недостаток характера, причудь. Как таскать с собой эту чертову «мендосу». — В Фирме все, знаете ли, носят «стены». «Мендоса» в три раза тяжелее, никто в последнее время даже близко не видал 7-миллиметровых пуль к мексиканскому «маузеру», даже на Портобеллороуд: ей недостает роскошной Гаражной Простоты или скорострельности, но Пират все равно ее любит (да, в наши дни это преимущественно по любви), — видишь ли, тут все дело в обмене, рази нет, — ностальгия по прямой тяге в духе «льюиса», возможность откинуть ствол за секунду (когда-нибудь пробовали снять ствол со «стена»?) и наличие обоюдоострого бойка на случай, если поломается… — Неужели меня остановит лишний вес? Это моя причудь, я к тяжести безразличен, или я б не вытащил сюда девчонку, правда?
— Я вам не подответственна. — Статуя в винного цвета бархате façonne[55] от шеи до запястий и лодыжек, и как давно, господа, наблюдает она из теней?
— Ой, — Пират робеет, — вообще-то подответственны, знаете.
— Счастливая парочка! — вдруг ревет Осби, беря новую щепоть того, что похоже на мускатный орех, глаза его закатываются до белков, до цвета миниатюрной горы. Чихает громко на всю кухню, и ему поразительно, что эти двое у него в одном поле зрения. Лицо Пирата темнеет от смущения, у Катье не меняется, наполовину выбито светом из соседней комнаты, наполовину в сланцевых тенях.
— Так, значит, надо было вас оставить? — И когда она лишь сжимает рот нетерпеливо: — Или вы думаете, тут кто-то был обязан вас вытаскивать?
— Нет. — Вот теперь дошло. Пират спросил только потому, что начал Подозревать — мрачно — сколько угодно Кого-То Тут. Но для Катье долг — лишь то, что надо стереть. Ее застарелый неподатливый порок — она хочет переплывать моря, связывать страны, между которыми невозможен никакой обменный курс. Предки ее на средне-нидерландском пели:
ic heb и liever dan êп everswîn,
al waert van finen goude ghewrach[56], —
о любви, несоизмеримой с золотом, золотым тельцом и даже, как в этом случае, с золотой свиньей. Но к середине XVII века золотых хряков уже не осталось, только из смертной плоти, как у Франса ван дер Нареза, еще одного предка, который отправился на Маврикий с целым трюмом таких живых хряков и потерял тринадцать лет, таская по эбеновым лесам свою haakbus[57], бродя по болотам и языкам лавы, методично истребляя местных додо, а зачем — он бы и сам не сумел объяснить. Голландские свиньи разбирались с яйцами и птенцами. Франс тщательно целился в родителей с 10 или 20 метров, ствол уперт крюком в сошку, медленно тянет спуск, глаз сосредоточен на линяющем уродстве, а ближе, в фитильном замке, пропитанное вином, зажатое челюстями серпентина нисходит красное цветенье, и жар его у него на щеке — «как мое собственное маленькое светило, — писал он домой старшему брату Хендрику, — повелитель моего Знака…», являя затравочный порох, который он прикрывал другой рукой, — вдруг вспышка на полке, сквозь запальное отверстие, и гром выстрела отзывает от крутых скал, отдача бьет прикладом вдоль плеча (кожа сначала содрана, волдырь, а затем роговеет — после первого лета). И глупая неловкая птица, ничем не приспособленная ни летать, ни хоть сколько-то быстро бегать — да к чему они вообще нужны такие? — неспособная даже засечь своего убийцу, разорвана, плещет кровью, сипло издыхает…
Дома брат просмотрел письма — какие ломкие, какие в пятнах морской соли или выцветшие — за много лет, доставленные все сразу, мало что понял, хотелось только провести день, как обычно, в саду и теплице с тюльпанами (верховное безумье того времени), особенно с одною новой разновидностью, названной в честь нынешней его возлюбленной: кроваво-красными, тонко татуированными фиолетом… «У всех новоприбывших тут новый snaphaan[58]… но я держусь за свой неуклюжий старый фитильный… ведь я заслуживаю неуклюжего оружия для такой неуклюжей дичи, правда?» Однако Франс ни словом не обмолвился, что держало его средь зимних циклонов, заставляя совать пыжи из ветхих мундиров вслед свинцовым пулям, его, обожженного солнцем, бородатого и грязного, — если не шел дождь или он не оказывался в нагорьях, где кратеры старых вулканов собирали в чаши осадки, голубые, как небеса, и вздымали их приношеньем.
Он оставлял додо гнить — не мог помыслить питаться их мясом. Обычно охотился один. Но частенько после многих месяцев уединение начинало менять его, менять само его восприятье — зубчатые горы при полном свете дня вспыхивали у него прямо на глазах чудным шафраном, текучим индиго, небо становилось ему стеклянной оранжереей, весь остров — тюльпаноманией. Голоса — он бессонен, южные звезды, слишком густые для созвездий, изобилуют лицами и баснословными созданьями, еще менее вероятными, нежели додо, — рекли слова спящих, поодиночке, дуэтами, хором. Темпы и тембры — голландские, однако наяву в них никакого смысла. Только вот он полагал, что они его предостерегают… бранят, сердятся, что не способен понять. Однажды весь день просидел, уставясь на одинокое белое яйцо додо в травяной кочке. Слишком далеко, ни одна свинья на фуражировке не нашла бы. Он ждал царапанья, первой трещинки, что потянет за собой сетку по известковой поверхности, — ждал явленья. Пенька зажата в зубах стальной змейки, готова зажечься, готова снизойти солнцем в море черного пороха и уничтожить младенца, яйцо света превратить в яйцо тьмы в первый же миг птенцова изумленного видения, влажного пуха, взъерошенного прохладой этих юго-восточных пассатов… Каждый час поправлял прицел, глядя вдоль ствола. Вот тогда-то он, наверное, и увидел — если увидел вообще, — что оружие творит ось, мощную, как земная, между ним и этой жертвой, еще целой, в этом яйце, с родовой цепью, которую нельзя порвать долее, чем на эту ее вспышку мирового света. Так они и сидели — безмолвное яйцо и спятивший голландец, да еще гаковница, что навеки соединила их звеном, в раме, блистательно недвижные, ни дать ни взять Вермеер. Двигалось только солнце: от зенита вниз и наконец за кривозубые горы к Индийскому океану, к дегтю ночи. Яйцо не дрогнуло, по-прежнему не взламывалось. Надо было разнести его на месте — он понимал, что птенец вылупится до рассвета. Но колесо сделало оборот. Он поднялся на ноги, суставы коленей и бедер взвыли от боли, голова звенела гонгом от распоряжений сновещателей — бубнили, накладывались друг на друга, все неотложные, — и лишь захромал прочь, четко вскинув оружие на правое плечо.