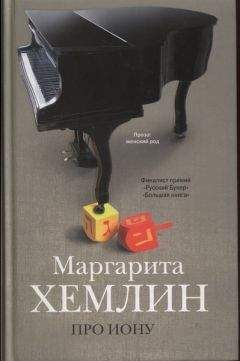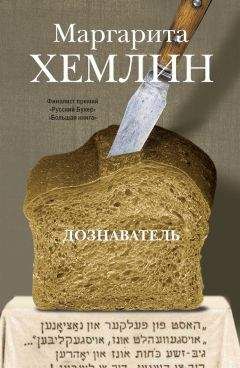Марик говорил ласково и всем своим видом показывал, что верит заранее, что бы Элла ни сказала.
Элла все-таки молчала. Тогда я распахнула дверь шкафа и потребовала наглядно показать, как и когда Элла нашла драгоценности и куда их перепрятала или еще хуже — вынесла из квартиры в неизвестном направлении.
Вероятно, я в порыве негодования слишком сильно дернула дверцу, и она слетела с одной петли. Теперь она висела косо и еще скрипела. От этого картина потеряла свою трагичность, и Элла засмеялась.
Я ее обрубила:
— Сейчас совсем оторву эту дверь проклятую и проломлю твою голову! Тогда ты престанешь издеваться над нами!
И действительно, сорвала дверь с оставшейся петли. Но она оказалась слишком тяжелой, и я упала. Марик бросился ко мне и освободил из-под двери.
Я не утеряла самообладания и продолжила:
— Немедленно говори! Или я тебя сдам в детдом. Там несовершеннолетние преступники, а когда тебе исполнится совершеннолетие, перейдешь в тюрьму, где тебе и место!
Мои силы неожиданно иссякли, и я посмотрела на Эллу другими глазами. И в моих глазах она прочитала, что я уже без сил и меня не стоит бояться.
— Папа, — спокойно сказала Элла, — успокой маму. Да, я взяла три золотых кольца и одну пару сережек. Потому что обещала Свете Лифшиц показать, что она правильно описала мне приметы евреев. У вас в тайнике лежит золото. Вы его прятали. Я нашла тайник. Все правильно. Вы прятали. Я нашла.
— И что дальше? — Марик одной рукой поддерживал меня за плечо — я сидела на кровати, а другой потянулся к Элле. Наверное, хотел погладить ее по голове.
Элла отклонилась и закончила свою мысль:
— А дальше то, что мы со Светой устроили свой тайник. Можете меня пытать, я вам ничего не скажу. Ищите. Я же искала. И вы ищите. А просто так не получите.
Марику как будто залепило рот. Он что-то хотел возразить, а не мог. И я не могла. Только у меня круговой паралич — не только рот заперли, но и руки-ноги отняли по всему периметру существа.
Марик еще сильнее сжал мое плечо и четко произнес, хоть и по складам:
— Хорошо. Я сам лично буду искать. Если не найду — золото твое. Но я найду, будь уверена. Сначала я позову Свету. Если она не признается, позову ее родителей.
Элла ответила:
— Я не боюсь. Зови Свету. У нас с ней договор, скрепленный кровью. Мы против евреев. Нам нужны деньги, чтобы от вас убежать. Ей от своих, а мне от своих. Она меня не выдаст. Хоть убейте.
Моя доченька повернулась и ушла.
А ведь ребенку девять лет. И такое железное спокойствие.
Мы с Мариком переглянулись.
Я попросила:
— Марик, делай как сказал. Она все равно уже чужая. Хуже не будет.
Марик кивнул:
— Да, Майечка. Дело не в золоте. Надо ее спасать. Правда же?
Я горячо кивнула.
Света Лифшиц жила в соседнем доме, и ее телефон у нас был записан. Но вызывать девочку к себе — как можно? Говорить с ней без ее родителей тем более.
Марик предложил:
— Не будем торопиться. Детский ум может придумать всякое. А в состоянии волнения и упрямства возможны нежелательные проявления. Пусть Элла пока торжествует. Пусть завтра поделится со Светой. Посмотрим, как разовьются события.
Но Элла сделала по-своему. Она сама вызвала Свету к нам в тот же вечер. Через пятнадцать минут после разбирательства Света пришла под предлогом того, чтобы сделать уроки. О чем и заявила в коридоре Марику, который вышел на звонок. Элла стояла там же и красноречиво улыбалась.
— Света, — сказала она подружке, — приготовься. Они нас будут пытать. Они узнали про золото, которое мы спрятали. Покажем им, что нам ничего не страшно от их рук. Пошли в большую комнату, сядем там и будем сидеть. А они пускай верещат на весь свет.
И пошла первая. Света стала пунцовой, так перепугалась, но все же поплелась за Эллой. Обе сели на диван и положили руки на колени.
Я наблюдала из спальни. Марик застыл в дверях из коридора в комнату.
В тишине прошло несколько минут.
Света Лифшиц хныкала:
— Отпустите меня домой. Меня будут искать родители. Они заявят в милицию.
Света заплакала, хоть руки с коленей не убрала. Слезы текли по лицу и падали на сжатые кулачки. Элла гневно посмотрела на нее и прошипела:
— Как тебе не стыдно! Они же радуются, что ты сопли распустила. Они нам ничего не сделают. А если сделают, их посадят в тюрьму. Ты же сама говорила!
Марик громким, но неуверенным голосом сказал:
— Хватит ломать комедию. Вы две дурочки. Никто вас трогать не собирается. Хоть и надо. И крепко. Сейчас же иди домой, Света. Или лучше — я пойду с тобой и поговорю с твоими родителями. Расскажу им, что ты их ненавидишь за то, что они евреи. А ты будешь стоять и слушать.
Марик хотел что-то еще продолжить на эту тему, но Света зарыдала:
— Ой, не надо! Я их очень люблю! Так люблю, что я не знаю как! Мы просто играли! Это игра! Элла, скажи! Мы просто играли! Мы придумали, что не любим! А колечки и сережки я покажу где. Мы сделали секрет под стеклышком. Во дворе, здесь! Тут у нас рядом с клумбой! Я покажу! Только ничего не говорите моим папочке и мамочке!
Элла от такой прямоты растерялась.
Марик, чтобы не утерять инициативы, скомандовал:
— Сейчас же во двор! Одевайтесь!
Он взял фонарик и вышел вместе со Светой.
Элла идти отказалась.
Мы остались с ней наедине. Она придвинулась, ноги у нее были деревянные. А лицо она запрокинула вверх, чтобы глаза уперлись в потолок.
— Ну и что. Ну и что. — Это она сказала абсолютно взрослым голосом человека, которого уже обрекли.
И тут мне показалось, что прошло сто лет со дня ее рождения.
Да. С Мариком мы не обсуждали создавшееся положение. Он пообещал Свете, что ничего не расскажет ее родителям. Я возражала, но в конце концов согласилась. Никому не станет легче. Новый скандал только отразится на Элле, так как понятно, что она была заводилой и ее испорченный ум не успокоится, а пойдет дальше. И куда, это еще большой вопрос.
Несмотря на мое тревожное ожидание, учительница не давала о себе знать насчет публичных извинений. С Эллой всякие разговоры на посторонние темы прекратились сами собой. Только необходимое.
Иногда я ловила на себе ее пустой взгляд.
Марик со слезами спрашивал: когда она стала чужая, почему.
Но я думаю, что она родилась чужая. Как женщина я могу ощущать подобные вещи.
В квартире воцарилась невыносимая атмосфера.
Одно держало меня: редкие письма Мишеньки, которые становились все сердечнее. Я, конечно, писала ему каждый день.
Насчет акустики и ее роли в будущем Мишеньки.
Саша Репков мне объяснил примерную разницу между использованием акустики в нефтянке и на флоте. Разница, конечно, огромная. Но все-таки принцип есть. Мише не помешает.
Хоть Репков мне наглядно проиллюстрировал, что лучше в таком случае Мишеньке идти на специальность «Полевая геофизика» или как-то так. Глубина залегания и так далее. Взрыв, датчики. Примеси. Звучало очень заманчиво. Но взрывы меня насторожили.
После ухода Репкова я переписала конспект, который он мне на слух представил в своей речи, и добавила свои соображения на опасную тему взрывов. Пусть Мишенька подумает. Может, лучше быть геофизиком.
Мне нравилось представлять, как мой сын слушает глубину и всякие помехи возле лодки и предупреждает товарищей в случае чего.
Да. Миша находился на такой глубине, что его никому из тех, кто наверху, не достать. Ни мне, ни Марику, ни Блюме с Фимой.
А Блюма и не давала мне забыть о ней. Писала письма с изложением дел в Остре. Всякие мелочи. Никаких обобщений она сделать не могла по своему умственному развитию, но у нее хватало ума всякий раз давать цифровой отчет по письмам к ней Мишеньки. Сколько пришло, какое обращение: «Дорогие Блюмочка и Фимочка», какие обещания на будущее: «Если дадут отпуск, обязательно приеду в Остер».
Но вот от Блюмы пришло письмо иного рода.
Был конец учебного года. Элла довела меня своей неуспеваемостью до белого каления, и я находилась в очень нервном состоянии. К тому же предстояло решить, что делать летом. Ехать вместе с дочкой на море не хотели ни я, ни Марик. Отправлять ее в лагерь мы тоже боялись. В детском коллективе, тем более на относительной свободе, могло произойти всякое.
Именно в этот момент Блюма написала без всякой внешней причины с моей стороны, что она больше не может терпеть и хочет меня предупредить, чтобы я не давила изо всей своей силы на нервы Мишеньки. Что он устал от моих наставлений и предначертаний. Что у него свои планы на будущее, а институт, который я указала ему по профилю, ему не годится, и он мечтает совершенно о другом. И что Блюма совсем на другое рассчитывала, когда умоляла его целый год в своих письмах помириться со мной и ни в чем для вида мне не перечить.