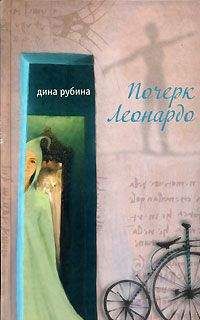Ознакомительная версия.
В цирке за ним прочно закрепилась кличка «Задрыга».
Эквилибрист Семен Аркадьич – единственный, кроме «молодняка», непьющий артист, то есть пьющий, конечно, но вечерами, после представления, – держался со сдержанным достоинством. Свой элегантный номер работал под романтическую музыку, на высоком белом пьедестале, с красивой сине-белой подсветкой. Сухощавая тонкая фигура гнулась в медленных пируэтах, замирала на полминуты в замысловатых арабесках, вновь оживала…
Горьковских работяг завораживала скульптурно застывшая красота.
Была еще девушка Марина, «каучук»; но посреди столь удачного чеса ее пришлось снять с программы: во время выступления прямо перед носом у нее выскочила крыса, уселась и с любопытством уставилась в глаза артистке. От ужаса у той замкнуло позвоночник. Так, дугой, прямо со сцены, беднягу и увезли на «скорой».
Но вот кто работал потрясающий номер – латыш Алексей Трокс. Это была чистая манипуляция: обаятельная неуловимая ловкость рук. Фокусы с картами, шариками, монетами, спичками.
Например, появившись на сцене, артист мучительно и безуспешно пытался зажечь спичку о подошву элегантной концертной туфли. И когда нарастал насмешливый ропот публики, в его левой руке неожиданно вспыхивала совсем другая, тайно припасенная спичка.
Заканчивал свои выступления безотказным трюком: ходил по рядам и, отвлекая внимание зрителей, виртуозно снимал часы с простодушных зевак. Затем вызывал на сцену двух-трех особо «неверующих» и на глазах у недоверчивой публики, в те мгновения, что крутил, разводил, расставлял добровольцев, попутно снимал часы и у них. И все в хорошем темпе, с прибаутками, какими-то стишками собственного производства, довольно смешными. Так что в финале, когда фокусник приступал к раздаче «уведенных» часов, в зале стоял гром аплодисментов.
Каждый день, отработав свою детсадовскую туфту, ребята спускались в зал – Анна иногда прямо на роликах – смотреть на «дядь Лешу», на филигранное искусство действительно ловких рук. Им не надоедало.
…Правдами и неправдами Штопор устроил «своих гавриков» на постой в цирковую гостиницу в знаменитом районе Канавино. Дядя Леша уверял, что именно в здешних ночлежках и кабаках Горький брал своих персонажей. Говорил – вы принюхайтесь, малыши, и запомните этот жизненно-исторический перегар. Здесь воздух такой.
В самом деле, не верилось, что со времен написания известной горьковской пьесы прошло уже полвека: вокруг гостиницы и по всему району бродили такие ужасающе театральные типы, точно вырвались из гримерной минуток на пять – хлопнуть кружку пива тут, за углом.
Встречались и в самой гостинице бывшие цирковые, пропитые до последней жилочки.
По утрам собирала бутылки и выклянчивала кружку пива у ближайшего ларька всем известная Катька, в прошлом воздушная гимнастка. Жила она с сердечным другом, бывшим артистом, которого все звали просто Заяц, – довольно крепкий был старик, алкоголик со стажем, подрабатывал ассистентом в каком-то номере. Жили они душа в душу, сутками квасили, а когда не на что было пить, Заяц продавал Катю командировочным в той же гостинице. Не задорого. Иногда за бутылку.
В ободранном вестибюле с выщербленными плитками кафельного пола висело написанное от руки объявление, безнадежный вопль уборщицы Маруси: «Дорогие товарищи! Душевная до вас просьба не ссать в подъезде! Это какой же труд за вами убирать!»
Вся гастрольная компашка вечерами кочевала из номера в номер. Иногда по блату «москвичей» (все ж люди культурные, столичные) пускали «отдохнуть» в пустом помещении буфета – в комнате, обшитой формайкой и безнадежно пропитанной застарелым духом пивной отрыжки.
Жека роман крутил с местной буфетчицей Гердой Ивановной, одинокой дамой в вековой химзавивке. Губки она тщательно рисовала фиолетовой помадой – умильным сердечком, как на дешевых открытках – учительница первая моя. И пахла очень авторитетно: многолетний засол духами «Сирень» перешибал даже могучую вонь старых креветок в стеклянной витрине буфета.
Романтичное имя досталось ей от матери. Та в детстве на ярмарке видела спектакль заезжих кукольников. Огромный, с татуировкой на лбу, заморский мавр, невесть откуда взявшийся, надев на руки двух кукол, разыгрывал на разные голоса ужасно воздушную любовь. Принц и принцесса, Га й и Герда, впечатались в горячечное воображение девочки. И через тридцать лет родив единственную дочку, она сначала хотела назвать ее сразу двумя именами, слепив их в радужное кольцо: Гайгерда. Потом, увидев, как скривился муж, тяжелый заика, махнула рукой и усекла мечту.
За приют Герде немного платили – оставляли бутылки от пива. Она никогда не забывала напомнить: «Деньги, ребята, на жопе не растут!» И по-своему, отмечал справедливый Штопор, была права.
Устроившись «в уюте и просторе», да еще раздобыв у Герды граненых стаканов, чтоб как люди пить, вся цирковая бригада усаживалась вокруг сдвинутых столов, навеки застланных липкой клеенкой. И тогда обязательно затевался разговор о достоинствах разных цирковых буфетов. Да не тех, зрительских, в фойе, а что в служебной части, рядом с гардеробными. Это ведь, как ни глянь, очень важная часть жизни у цирковых.
– Все-тки я вам скажу, – говорил эквилибрист Семен Аркадьич, педантично ломая плитку шоколада и выкладывая дольки на расстеленный носовой платок. – Лучшие цирковые столовые – это Гомель, Минск и Алма-Ата…
– Так в Алма-Ате, Сема, даже своя пекарня при цирке! – вступал Штопор, аккуратно разливая по стаканам пиво. Никогда ни капли не пролил мимо, хотя делал это, можно сказать, со спины. Стаканы были казенные, с ними трепетно обращались. – Какие они там эклеры пекут, помнишь?
– Ну. А вот Горький, Ярославль, Тула – это чума; голод почище блокадного. Туда, если зашлют, консервами запасайся, сухарями, супами в пакетиках. Да и всем, чем можно.
Тогда влезал в разговор Жека-Задрыга, заявляя, что хуже буфета, чем тутошний цирковой, просто не бывает. Одни яйца вареные и креветки.
– Зато спиртного залейся, – возражал Штопор. —
Здесь директор сам зашибает, потому следит, чтоб не обидно было трудовому народу. Ну, будем!
Артисты опрокидывали, откашливались, отхаркивались, культурно отирали губы ладонью и тянулись к шоколаду.
– А у нас здесь, в Горьком, такой случай был. Здесь же артистический буфет прямо за форгангом, у выхода в фойе… Ну, и потому алкаши и бомжи просачиваются. Помню, стоим мы в форганге за занавеской, разминаемся… Полутемно, представление идет. Смотрю, какой-то мешок лежит. Пригляделся – алкаш в полной отключке. Значит, выполз из буфета, перепутал направление. Вместо фойе, направо, пополз налево. И сморило его прямо под святая святых, под доской авизо.
– А в Горьком и буфетчицы особые, – добавлял Штопор, наливая по новой. – Просто суперхамло! Одна так довыебывалась, что наш коверный – да ты его знаешь, Сема: Коля Сокольничий! – не выдержал, схватил с прилавка счеты и шарахнул ей по башке так, что она аж присела, а счеты – вдребезги. Ну, Колю мы тут же увели и прятали, пока милиция не уехала… Но баба хоть немного притихла. А Коле все потом говорили: «Что, сводишь счеты счетами?»
– С другой стороны, где Сокольничий, там драка и даже поножовщина, – вставлял Жека. – Что, скажешь – нет?
– Почему? – соглашался Штопор. – Я ж ничего не говорю, Коля вспыльчивый. Он тебе, Жека, в позапрошлом или прошлом году рыло-то начистил?
Когда напивался, Жека любил порассказать о своих победах над дамами:
– Ну, думаю, выпью еще полстаканчика! – рассказывал интимным тоном. – Выпил! Ну, думаю, щас нападу!
Часто компания обсуждала, какой цирк чем славится. Они ведь как люди – каждый со своей репутацией. Были такие, с дурной славой. Харьковский, например, – там всегда что-нибудь случалось.
– Вечные, ну вечные истории с дрессировщиками, – говорил дядя Леша. – Штопор, помнишь ту румынскую дрессировщицу, которую лев убил?
– А то! В Харькове много смертных случаев. Как и в Ижевске.
– В Ижевске – не скажи, не для всех, – поправлял Алексей. Он точность любил и в разговоре, как и в своей профессии, не допускал небрежности. – Там только канатоходцы летят. Многие падают и калечатся. И убиваются тож. Мой брат, когда ему приходила разнарядка в Ижевск, дважды брал больничный, да и запивал для верности. И пронесло! А через год после его «болезни» там еще кто-то из канатоходцев упал. Просто фатальный город…
Анна с Володькой прибились к дяде Леше.
На публике – во фраке, в бабочке – он глядел гоголем, к дамским ручкам галантно склонялся, рисованной бровью поводил. Вечерами же – в номере, да за бутылкой пива – лоск с него сползал, растрескивался, как старый грим на коже. Проступали морщины, красные прожилки змеились на носу и щеках, по-стариковски соловели глаза. Но цирковые байки и поучительные «соображения» так и сыпались из него, ни разу не повторяясь.
Ознакомительная версия.