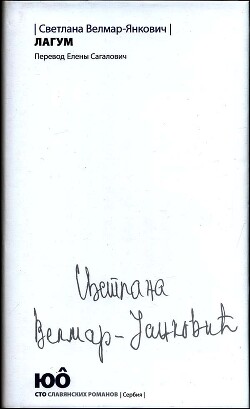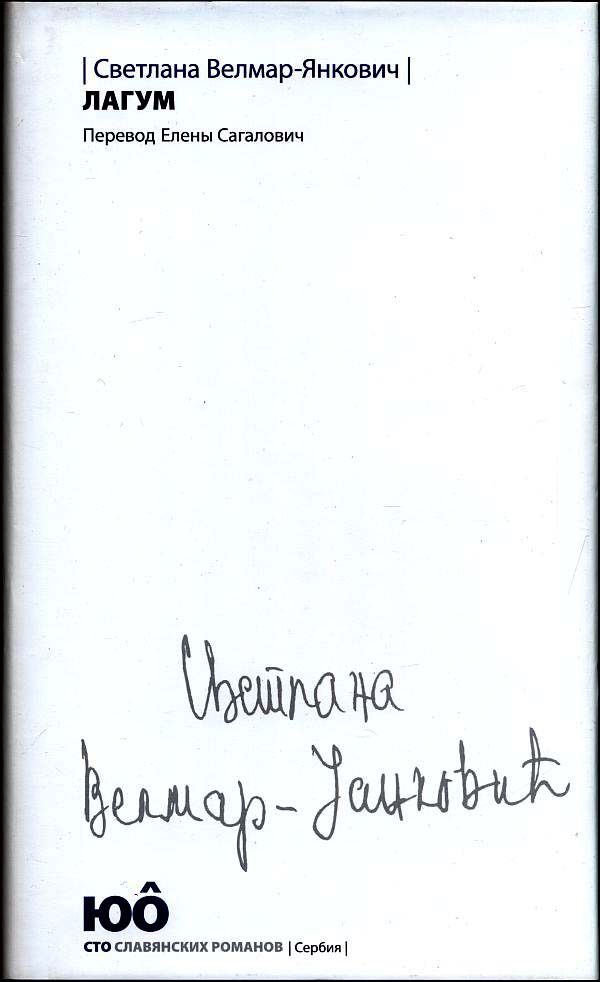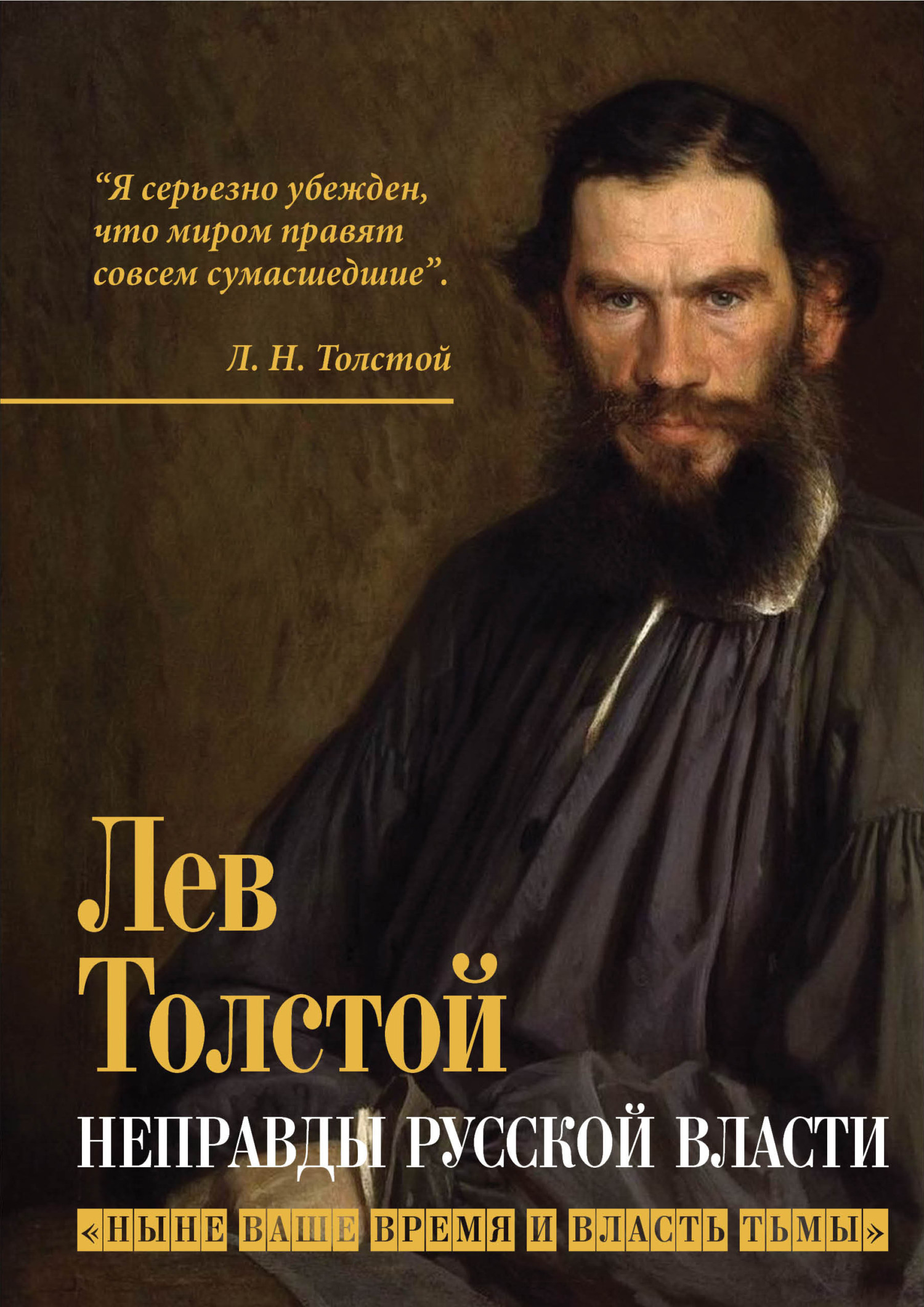Это тот Командующий, в ближайшем окружении которого одно время, как говорили, находился и Павле Зец?
Мне всегда казалось, что между фактами и событиями существует, если не тайная связь, то некое тайное сообщничество. Сейчас, в своем теперешнем возрасте, я знаю, что это правда, и что всё взаимосвязано, как сказал бы этот истерик Црнянский, блестящий писатель. Такая связь обнаружилась и в том сейчас, 5 марта 1943 года, около 11 утра. Словно с фотографии, которую я рассматривала, призванный своим таинственным знакомым, в дверях маленького коридора, ведущего на кухню из «зимнего сада», появился Павле Зец.
Бледный, да. Но не изможденный.
— Эй! — сказала я.
Я отпрянула от столика и пошла ему навстречу. Мои горные ботинки страшно случали по голому паркету.
— Не слишком ли рано для такой прогулки?
— Не преувеличивайте. Я уже несколько дней потихоньку встаю.
— Я слышу.
— Но вы не зашли взглянуть. Ни разу.
— Такова договоренность. Вы сможете присесть?
Я повела его к неудобной чиппендейловской банкетке.
— Понятно. Какая договоренность?
— Между мной и Зорой.
— Так.
— У каждой из нас своя область действий, область передвижения. Моя — прислушиваться. Я сторожу.
— Я не знал.
Мы сели, а он на меня таращился. Именно таращился.
— У меня тоже война, Павле. Что бы вы ни думали об этом. И я изменилась.
Он качал головой.
— Вы пробуждаете во мне желание рисовать. Поймать вас, когда вы дематериализуетесь. Запереть в стеклянной шкатулке, иначе вы исчезнете. Испаритесь на глазах.
Я улыбнулась, показала на изношенный шлафрок. Потом приподняла его полу, чтобы была видна не только нога в горном ботинке, но и толстый шерстяной носок. Неженственная нога.
— Испариться? В этом?
— Камуфляж для легковерных. Эти горные ботинки на самом деле удерживают вас на земле.
— Не будем больше об этом. Прежде всего, как вы себя чувствуете?
— Думаю, хорошо. Даже очень хорошо. И голова больше не кружится.
— Вы возвращаетесь к силе, а сила к вам.
— Благодаря еде и уходу, здесь. Вы очень постарались.
— И Зора постаралась.
— Хорошо, и Зора. Это само собой. Но означает ли это, что вы перешли на другую сторону?
— На вашу?
— На мою.
— Нет. Это означает, что пытаюсь выполнить главный долг любого человека.
— Звучит громоподобно, в самом деле.
— Обыкновенно.
— Значит, самаритянка? С таким риском?
— Все риск. И то, что вы сейчас сидите в этой ледяной комнате.
— Вы не пойдете со мной на другую территорию?
— Нет. Часовой не покидает пост.
— Часовой, парящий в воздухе, — не очень-то надежный часовой.
Я встала, взяла газету со столика и показала ему статью с фотографией.
— Это тот человек?
— Посмотрите-ка! Они больше и не делают вид, что не знают о нем.
— Это он?
— Да. Павелич [90] знает, что делает.
— Вы его уважаете?
— Павелича?
— Нет, человека с фотографии.
Внезапно с Павле Зеца слетела вся насмешливость: передо мной стоял воодушевленный мальчик.
— О нем еще услышат.
Он взглянул на меня, как незнакомец.
— Вы должны мне помочь найти связного. Причем быстро.
— Хорошо. Но как?
— Я что-нибудь придумаю.
Он больше не опирался на меня: на другую территорию похромал четко, по-солдатски.
Не он придумал, я сама.
Как только Павле Зец вышел из «зимнего сада», где-то внутри меня, глубоко, зародился вихрь беспокойства и начал биться о молчание крови. Потом он вылетел из меня, наверное, с дыханием, достиг полостей в спинках чиппендейловских стульев и банкетки, пронесся вплоть до встрепенувшихся растений. Из тревоги, которая так прорывалась из теснины доисторического вопля, показалось, едва подернутое прошедшими годами и очень близко, лицо госпожи Кристы Джорджевич, респектабельной председательницы Правления респектабельного Общества «Цвиета Зузорич». Слегка скрытое, особенно часть лба, тенью элегантной соломенной шляпы, которая была на ней в день открытия выставки Савы Шумановича, в воскресенье, 3 сентября 1939 года, это было то же самое лицо, увиденное мной, когда я в момент того сейчас, на выставке, отвернулась от художника Павле Зеца, а господин профессор Павлович пытался продолжить беседу со своим циничным ассистентом. Я повернулась и почувствовала, что сейчас умру: больше никогда и ни за что я не должна позволить этому художнику ко мне приблизиться, он не друг, совсем нет, но я никогда больше не должна даже призывать это приближение. Никогда больше. Nevermore, Ворон, Глупости, Точка. Я улыбнулась, нежно, господину профессору, отвернулась и от него, и шагнула в никуда.
В этом нигде оказалось, прямо передо мной, лицо, сосредоточенное на мне, это лицо под элегантной шляпой из черной соломки, лицо госпожи Джорджевич, лицо Кристы, а она никогда мне особенно не симпатизировала. Ее глаза меня пронзали. «Она все видела и все знает», — поняла я, голоса на выставке становились все громче, они клубились, сливались, господин профессор Павлович меня догонял, я слышала его шаг, а кто-то торопящийся, возможно, и взволнованный, желающий ко мне обратиться, приближался слева. Это не Сава, Саву я потеряла, нет, он потерялся. Вдруг мне стало нехорошо. «Она видит и, что я убегаю от него, сейчас, навсегда», — я не опускала взгляд, — мы смотрели друг на друга, — не замедляя шага. Какой там шаг, колени подгибались. Я дошла до Кристы, которая вдруг оказалась не враждебной, напротив, господин профессор Павлович тоже остановился, наверное, с кем-то, кто подходил слева и хотел к нему обратиться, это был не Сава, но все-таки кто-то очень близкий, они разговаривают, все происходило за моей спиной, по которой бегали мурашки, я больше не различала голосов. Тошнота поднималась изнутри, а пот стекал с темени по затылку, шее, позвонкам. Похоже, я пошатнулась, потому что Криста подхватила меня под руку, я была ей благодарна (и сейчас тоже, глубоко, потому что, вот, я не говорю «госпожа Джорджевич», а должна сказать тепло — «Криста»), она меня поддерживала, почти несла, вся такая хрупкая, продолжая мило беседовать и улыбаться всем вокруг, а мы с ней тоже так мило беседуем, и все в идеальном порядке в этом, наилучшем из миров. Она вела меня, бесстрастная и аристократичная дама, сквозь множество голов, сквозь бормотание голосов, к окнам большого зала Нового университета на Королевской площади. Мне показалось, на какой-то миг, между двумя улыбками, она, очень естественная, пробормотала: «Ничего страшного, вы выдержите», но я не была уверена.
Она ничего не спрашивала. Я ничего не сказала, да и не смогла бы: я выкорчевывала туман, клубившийся у меня перед глазами, под веками, в горле, он быстро густел и в воздухе, который у окна я, наконец, вдохнула. От рева автомобильных моторов воздух был горячим и рыхлым. Они еще носились вокруг Калемегдана, а я приходила в себя.
(Хорошее выражение, и точное: приходить в себя. Возвращаться из ниоткуда, к какому-то из собственных обличий, в какое-то из собственных обличий).
В том сейчас, когда я стояла, прислонившись к одному из окон большого зала Нового университета, где были выставлены полотна Савы Шумановича, я возвращалась в ту себя, которая очутилась в обнажившейся яви.
Так в день 5 марта 1943-го, в пятницу, во внезапно развеявшейся хмурости «зимнего сада» и в моем пасмурном беспокойстве передо мной возникло то лицо, оставшееся в 3 сентября 1939-го, воскресенье, а явилось оно между выросшим фикусом и книжным шкафом из «пламенного махагони» 1775 года.
(Эти цифры — 1939, 1943, 1775, — обозначающие по одному году из невидимого ряда невидимых, а потому исчезнувших лет, обозначающие один год из множества тысяч этих лет, — действительно что-то значат? Что-то более реальное, чем просто сама отметка для отрезка времени, обозначенного именно этим знаком? И самой цифрой, разумеется, которая указывает на то, что обозначает не только очертания и форму того года, но и его содержание? Я вообще не знаю ответов на вопросы, которые задаю так, как сумела научиться этому у мадам де Севинье, но догадываюсь, что содержание каждого года выветривается, как стираются их очертания и формы, и от них, от лет, остаются только цифры, как абстрактные величины.)