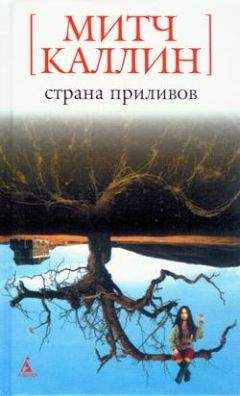Я тут же открыла глаза. Голова Диккенса дернулась в сторону.
— Ух-ху, — сказал он, напрягшись всем телом. — Это, наверное, мама. — Он слез с койки, подошел к двери, распахнул ее и некоторое время прислушивался к звукам в коридоре.
— Она проснулась? — спросила я у него.
Он повернулся и посмотрел на меня, его лысый череп сиял под лампочкой. Он уже приподнял руки, чтобы обхватить себя за плечи, но остановился.
— Не знаю, — ответил он. — Этого никогда не бывает, — а может, бывает, — так что ты подожди лучше здесь, ладно? Если мама проснулась,– то я у нее спрошу: может, она супу хочет.
А сам не двинулся с места. Так и мялся у двери; то вытащит руки из карманов, то назад засунет.
И вдруг у меня бешено заколотилось сердце.
— Мне страшно, — сказала я ему.
— Мне тоже, — ответил он.
Я представила себе: вдруг он уйдет и не вернется, а я так и останусь в ведьмином логове навсегда.
— Давай лучше пойдем вместе, так надежнее.
Он сказал:
— Ладно, только не говори Делл, что ты видела маму. Пообещай, а то я не возьму тебя с собой.
— Обещаю.
Но прежде чем мы с Диккенсом выскользнули в коридор, как два тихих привидения, я помогла ему спрятать сокровища. Динамит мы засунули в чулок. Диккенс положил свой секрет поверх фальшивых зубов в ящик для инструментов, запихнул его под койку и закидал всяким барахлом.
— Это наш клад, — сказала я.
— Очень опасный, — сказал он, беря меня за руку.
Потом мы вышли в коридор, сделали несколько шагов и оказались в соседней спальне. Там на туалетном столике мигали свечи, роняя капли красного, белого и лилового воска на эмалированную тарелку, отчего по комнате разливался приглушенный отблеск. Диккенс уже не держал мою руку. Он оставил меня стоять у столика, а сам шагнул вперед и исчез. Потом вдруг загорелся ночник, и я увидела, что Диккенс стоит у кровати с балдахином и смотрит на лежащую на ней женщину.
Мама.
— Делл говорит, что когда-нибудь мама проснется, — прошептал Диккенс. — Она говорит, что когда-нибудь придумают такую таблетку, или заклинание, или еще что-то в этом роде, и надо будет только дать или сказать их ей — и она откроет глаза. Только это еще не скоро, а до тех пор мама останется такой, как сейчас. И это хорошо. Потому что если ее похоронят или еще что-нибудь сделают, то ее совсем не будет. Так что хоть бы эту таблетку или заклинание поскорее придумали.
Женщина на кровати была меньше, чем мой отец, а в остальном почти такая же: тоже завернута в одеяло, вроде мумии, серебристые волосы коротко подстрижены, и пахло от нее лаком. С того места, где я стояла, мне не было видно ее лица, но я и не расстраивалась: ведь пчелы сделали из ее головы подушечку для булавок, продырявив ей щеки, нос и веки. Но теперь она спала. Она не шевелилась, ничего не слышала, и тот грохот, который нас спугнул, устроила тоже не она.
Диккенс поглядел на меня и пожал плечами. Что же это упало? Что грохнулось на пол и запрыгало по нему так, что мой муж выдернул свой язык из моего рта? Что это белое мелькнуло там, в углу, когда я стала вглядываться в непроглядную черноту пола? Бейсбольный мяч. Когда я подошла и наклонилась за ним, то увидела на полу рядом с кроватью что-то вроде подстилки из одеял, на которых лежала подушка, а на ней, аккуратно сложенная, ночная сорочка моей матери.
«Лежбище Делл, — подумала я. — Здесь она сторожит маму от пчел».
— Это не твоя игрушка, — зашептал Диккенс.
Он подошел и взял мячик у меня из рук.
— Нельзя с ней играть.
Потом он повернулся и пошел к туалетному столику. Я вернулась за ним и увидела, как он положил мяч подле тарелки со свечами. А еще я разглядела то, чего не было видно при свечах, но стало хорошо заметно при ночнике, хотя и тусклом: туалетный стол был на самом деле не стол, а алтарь, полный фотографий и разных памятных безделушек. Среди свечей лежали бусы, трубка из вереска, мраморные шарики, хрустальная рыбка, принадлежавшая моему отцу карта Дании, жестянка для табака с портретом принца Альберта, серебряный поднос с помадами, пудрой и набором кисточек.
Там же, у самого зеркала, стояло и мое мертвое радио.
— Это мой подарок.
— Нет, это все Делл, — сказал Диккенс, — это ее вещи.
Я была так занята алтарем, что даже не стала спорить.
Все зеркало покрывали фотографии: семейные снимки, незнакомые лица из прошлого. Вот мужчина и женщина на качелях у крыльца, у них на коленях ребенок, вот мальчик запускает бумажного змея, вот девочка с хула-хупом; попадались среди них и Джон Ф. Кеннеди, и Чехов из «Стар-трека», и Дэви Джонс из «Манкиз», и очень похожий Иисус с крестом, — и мой отец в дни своей славы, с гитарой через плечо, тыкал пальцем в объектив.
По правде сказать, отец был повсюду. Вот он едет в машине с откидным верхом. Ест хот-дог. Дает автограф. В белой футболке пьет пиво. Играет в пинбол. А кто это с ним? Что за девушка стоит, положив руку на его обтянутые кожаной курткой плечи, целует его в щеку, ерошит ему волосы? На каждом снимке одна и та же блондинка с пухлыми губами. Здесь они целуются, там она запускает руку ему под пиджак или футболку.
Стильная Девчонка догадалась сразу, хотя и слепая.
«Это же Делл, — подумала она. — Раньше она была красоткой, а вовсе не толстухой и не пираткой. Она любила твоего папу. И оба глаза у нее были нормальные».
И тут мы с Диккенсом снова зашептались.
— Они целовались, — сказала я.
— Похоже на то, — ответил он. — Только это было вечность назад. Но Делл хорошенькая. А это ее парень, ее особенный друг. Он долго о ней заботился.
— Это мой папа.
— Да нет, это не он. Нет. Твой папа не похож на этого парня. Я бы запомнил.
— Да нет, он, а это Делл, и они целуются. Так же как и мы.
И мне тут же захотелось, чтобы он меня поцеловал. Захотелось почувствовать его язык у себя во рту. Так я ему и сказала.
— Я тоже хочу, — ответил он.
В животе у меня стало щекотно.
Он взял с серебристого подноса помаду и повел меня к подстилке возле кровати. Там мы сели друг против друга и пригнулись, чтобы не видеть маму и чтобы она не увидела нас, если вдруг проснется. Потом мы накрасили друг другу губы, отчего наши рты сделались мокрыми и красными. А потом стали целоваться, закрыв глаза и причмокивая. Его рука пробралась в мои плавки, и он стал щекотать меня внизу. Но меня это не беспокоило — ведь я была Делл, а он моим папой, и у нас должен был родиться ребенок. Когда мы целовались, мне было хорошо и спокойно и внутри у меня все искрилось, словно бенгальский огонь; я была уверена, что теперь так будет всегда. И никогда не кончится.
Но все кончилось, взорвавшись внезапным криком:
— Грязная грязь! Пакость!
Делл стояла над нами и грозно смотрела на нас, сжимая в руках обтянутый сеткой пробковый шлем. Не успели мы ни слова сказать, ни пошевелиться, как она пнула Диккенса обутой в сапог ногой, отталкивая от меня. От всего, что случилось после, у меня перехватило дыхание: Делл треснула по шлему кулаком, раздался глухой стук, и Диккенс тут же встал на четвереньки и торопливо пополз в угол, подальше от нее.
— Не надо, Делл, пожалуйста, не надо!
— Скотина грязная!
И она швырнула шлем на пол, отчего тот вывалился из своего сетчатого чехла, покатился, точно поставленная на попа автомобильная покрышка, к Диккенсу и ударился в стену возле его правого колена: совсем чуть-чуть — и задел бы. Отскочив от стены, шлем покатился назад, обогнул сапоги Делл и, наткнувшись на ножку туалетного стола, затих. Но впечатление было такое, как будто он ударил Диккенса, и сильно: тот упал на бок и, прикрывая лицо, свернулся калачиком на полу. Его грудь ходила ходуном, из нее вырывался дребезжащий стон, то и дело прерываемый всхлипами.
— Скотина!
Не сводя глаз с сетчатого капюшона Делл — а он упал прямо передо мной и теперь лежал, свернувшись грязным комком, рядом с подстилкой, — я прикрыла уши руками, но все равно слышала каждый звук.
— Ишь нашел место! — орала она на него. — Это ж надо было — притащить такую пакость домой! — Тут она повернулась так резко, что край ее длинного домашнего платья задрался, показав сапоги, и нависла надо мной.
— Это мой дом! Мой, слышишь, ты, предательница! Не зря люди говорят: яблочко от яблоньки далеко не падает! Каков папаша, такова и дочка!
А еще она обозвала меня шпионкой. Сказала, что я вечно лезу туда, куда меня не просят, да еще и подружек своих, маленьких соглядатаев, с собой тащу.
— Прячешься по кустам, подглядываешь, маленькая дрянь! Будешь теперь голодать, ясно? Ни куска больше не получишь, ни крошки, не жди даже!
— Но я ничего не сделала! — сказала я и заплакала. — Совсем ничего!
— Лгунья!
— Ничего.
Она схватила мое запястье и, уставившись на кукольную головку у меня на пальце, закривлялась, передразнивая меня: