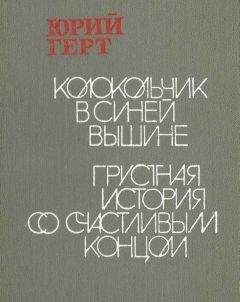Было хорошо — тихо, спокойно, только за стеной приглушенно бормотал телевизор да иногда сквозь окно вливался дружный, раскатистый гул. Это во всех окрестных домах болельщики переживали очередной гол футбольного репортажа.
«Нет, — думала она, — нет, нет, нет... И я, и все — ждут чего-то большого, непременно — большого, такого, что выпадет из миллиона одному... Нет, пусть самое маленькое, незаметное дело, но только — нужное... Нужное хоть для кого-то — вместо ожидания, бесконечного ожидания и всех этих слов...»
Что-то новое, сокровенное рождалось, вернее — только зачиналось в ней в эти дни. Что?.. Она и сама не знала...
Она только почувствовала это, когда, оторвавшись от уроков, пошла в комнату, где спали дети. Она приоткрыла форточку, поправила одеяла и постояла над Петей Бобошкиным. Он беспокойно ворочался, дергался во сне, выбулькивая какие-то непонятные звуки... Таня погладила его по голове, по ржаво-рыжему вихру, подержала на горячем лбу ладошку. Он успокоился. Странно было чувствовать, что это она его успокоила, ее ладонь...
А назавтра — да, и надо же, чтобы именно назавтра!— произошло два не связанных между собой, два несопоставимых, но имевших прямое отношение к Тане события. Одно из них обозначилось загадочными буквами «ЮТ», другое... Другое официально именовалось так: дело о соучастии Петра Бобошкина в ограблении магазина...
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ,
в которой созревает явно предгрозовая ситуация
В то утро Эраст Георгиевич сидел у себя в кабинете и размышлял о человеческой неблагодарности.
Надо сказать, что грустные мысли по этому поводу приходили к нему все чаще после долгого и жесткого спора с Рюриковым.
Под напором фактов Эраст Георгиевич вынужден был согласиться с тем, что его система имеет некоторые недостатки, а в дальнейшем, уже без помощи Рюрикова, чуть ли не каждый день совершал все новые открытия в этом направлении.
Едва, например, ученики выяснили, что три культпохода по сумме баллов с лихвой перекрывают одну неудачную контрольную, как все классы повалили в кино. Участие в репетиции хора возмещало двойку за диктант — в хор хлынули отстающие, он разросся, разбух, для него уже тесна была школьная сцена. Хвастуны и наглецы вырывались вперед, приписывая себе такие высоконравственные поступки, какие им не снились и во сне. Ребята же достойные, но скромные, неизменно оказывались в проигрыше. Мало-помалу они теряли веру в справедливость, ими овладевало безразличие, кое-кто начинал подражать дурным образцам...
Все это видел теперь и сам Эраст Георгиевич, но считал, что его воспитательная система тут ни при чем, просто она оказалась слишком беззащитной перед разного рода проделками, уловками и плутовством. Рюриков же утверждал, что и плутовство, и уловки, и проделки, на которые пускаются ребята, — все это прямой результат и порождение системы, что если тут кто и ни при чем, то это именно ребята!..
Вот на чем они столкнулись. Эраст Георгиевич горячо упрекал Рюрикова за то, что он жалкий скептик, что он не верит в Эксперимент... Рюриков же твердо стоял на своем, отвечая, что да, не верил и не верит, но зато верил и верит в ребят, в добрые человеческие стремления, а это гораздо важнее!..
Они ни до чего не договорились. Рюриков объявил о своем намерении вступить в борьбу с Эрастом Георгиевичем, вернее — с его педагогическими принципами, которые способны погубить школу. Эраст же Георгиевич вступил в борьбу за свою систему...
В целях ее усовершенствования были разработаны и внедрены дополнительные поправки и коэффициенты, но они только усложнили методику подсчета, не устранив злоупотреблений. Тогда преобразовали счетные комиссии, создали проверочные комитеты, контрольные органы, мандатные посты. Все было пущено в ход: совещания, заседания, проверки, взаимопроверки, отчеты, взаимоотчеты. Вся школа мусолила карандаши, заполняя рапортички, ведомости, подбивая балансы. Все что-то считали, пересчитывали, складывали, вычитали, перемножали, делили. Росла подозрительность, росли обиды и недовольства. По каким-то неясным причинам превосходно налаженная сигнализация Малых Стендов регулярно выходила из строя, на Большом же Стенде, в нижнем вестибюле, проводка дважды оказалась оборванной, лампочки — разбитыми. Завхоз Вдовицын вел дознания, но выводы не оглашались: в безобразиях часто бывали замешаны лучшие ученики...
Короче, для школы № 13 наступили смутные времена.
Учительская раскололась. Между педагогами нашлись такие, кто требовал неотложных и решительных мер. Никто не знал, в чем конкретно эти меры должны заключаться, знали только, что они должны быть неотложные и самые, самые решительные. Другие советовали от любых чрезвычайных действий воздержаться, но зато ввести какой-нибудь новый добавочный коэффициент. Третьи же — и таких становилось все больше — вообще ничего не хотели, ни мер, ни коэффициентов, а хотели единственного: чтобы их оставили в покое и не мешали работать.
В эти трудные времена Эраст Георгиевич, стремясь поддержать свой авторитет, пытался всех примирить, сплотить и обнадежить. Одним он обещал решительные меры, другим — добавочный коэффициент, третьим — спокойствие.
Но какое-то странное оцепенение все больше овладевало им, что-то непривычное проступало иногда в его энергичном облике: в нем иногда мелькала та мягкая, та возвышенная печаль, которая свойственна людям, не оцененным и даже отвергнутым своей эпохой.
Ему нравилось вспоминать в такие минуты о своем тихом НИИ, расположенном в старинном купеческом особнячке, с ветвистой акацией, расцветавшей по весне прямо под окнами, с разложенными по столам фолиантами, отпечатанными на отличной мелованной бумаге. Там некогда зарождалась в его мечтательном воображении новейшая воспитательная Система...
И вот, когда Эраст Георгиевич, наедине с самим собой, размышлял о чем-то таком, и был мягок, был печален — завхоз Вдовицын широким, победным шагом пересек его кабинет и, едва не щелкнув каблуками, положил перед ним тетрадный листок с четырьмя, по углам, дырочками от кнопок.
Вот что было написано на этом обыкновенном тетрадном листке:
«ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!
СОЗДАЕТСЯ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО «ЮТ» — «ЮНЫЙ ТЕЛЕПАТ». ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ — СЕГОДНЯ ПОСЛЕ ШЕСТОГО УРОКА.
Евг. Горожанкин».Эраст Георгиевич, разумеется, помнил о нелепой затее Горожанкина, но по-прежнему не придавал ей никакого значения. Однако, для полной уверенности, он к себе пригласил как-то учителя физики Попова, представителя самой передовой и современной науки. Но при этом Эраст Георгиевич не учел, что последние полвека физика имела дело с куда более фантастическими вещами, чем столоверчение или вызывание духов.
На вопрос: существует ли телепатия? — физик Попов, крепкий, румяный молодой человек, занимающийся альпинизмом, заявил, что вполне вероятно — да, существует. Он тут же назвал несколько статей, опубликованных в дискуссионном порядке, и в ответ на замечание, что статьи-то ведь дискуссионные, сказал, что в период переживаемой ныне научно-технической революции многое считается дискуссионным. И он заговорил о таких туманных вещах, как, например, кривизна пространства, спираль времени, квазары и квазаги, протоматерия и расширяющаяся Вселенная.
Эраст Георгиевич, человек с вполне законченным, но гуманитарным образованием, понимал его чем дальше, тем меньше, но в заключение он поблагодарил физика Попова за консультацию и заверил, что лично он ни в коем случае не против научного прогресса.
Таким образом, у Эраста Георгиевича не было ясности в этом вопросе, как, впрочем, и у многих его современников.
Однако, в отличие от многих современников, проблема телепатии для него имела не только теоретическую сторону...
Вот почему он перечитал объявление Жени Горожанкина несколько раз, и его вызывающий, дерзкий и вместе с тем деловой тон с каждым разом лишь усиливал смущение в душе Эраста Георгиевича. Но он стремился это смущение ничем не выдать перед завхозом Вдовицыным. Он задал Вдовицыну два-три незначащих вопроса, но тот на них отвечать не стал, а сказал грубо, с нажимом:
— Не мое это, как говорится., дело, но только куда же мы это идем, Эраст Георгиевич? Куда, как говорится, заворачиваем?..
Слова завхоза прозвучали явным обвинением. Кроме того, Эраста Георгиевича задело, что Вдовицын разгадал его тревогу... «Хам, — подумал он, вспомнив разговоры в учительской. — И он тоже заговорит сейчас о мерах».
— Вы могли бы не снимать объявления, — произнес он раздраженно.— Я сам разрешил Горожанкину это научное общество и не вижу здесь никакой опасности...
Тоскливые мутные огни, как фонари в густом тумане, вспыхнули в глазах Вдовицына.
— Совершенно никакой опасности! — повторил Эраст Георгиевич.— И потом,— продолжал он, однако уже не так резко, — и потом, Вдовицын, прошу вас не забывать: у нас есть принципы, в которых мы воспитываем наших учащихся: самостоятельность, активность, инициатива!..