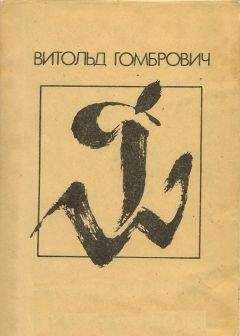Вы можете спорить со мною в отношении справедливости этих взглядов, позволяющих сделать массу выводов. Но пусть никто не обвиняет меня в отсутствии патриотизма, если под этим словом мы будем понимать не только лишь любовь к теперешней, сиюминутной Отчизне, но любовь ко всем тем отчизнам, которые в нас потенциально существуют и которые мы в состоянии из себя произнести, мы, поляки, если в основу слова «патриотизм» мы положим самое глубинное из его значений — то есть саму способность создать Отчизну.
*
Считаю, что вполне возможно и такое отношение к народу, в котором наша естественная к нему привязанность, более того — неизбежный и независимый от нашей воли союз с ним были бы дополнены ощущением народа как опасной силы, перед угрозой которой следует быть начеку. Нам бы следовало понять, что народ (как и каждое сообщество) может нас корежить, деформировать, доходя в этом до самого нашего нутра, до самой сущности. Нам бы следовало так определиться психологически, чтобы быть и в народе и вне народа — и даже над народом. «Вне» и «над» — для того, чтобы иметь возможность создать для себя народ по образу и подобию нашему.
Но даже если такая программа оказалась бы слишком большой по сравнению с нашими теперешними возможностями, то претензии не ко мне, я не по части разработки программ, а лишь по части формулировки и выявления чаяний. Я — искусство (прошу простить мне эту узурпацию), я — как сон, я не считаюсь ни с чем; во мне находит свой голос высшая свобода скрытых стремлений, нужд, необходимости; я — всего лишь ее наполнение. Потом, когда вы проснетесь от этой книги и вернетесь к повседневной жизни, вы сможете поразмыслить над перетолкованием мечты на язык трезвого практицизма.
И здесь я не стану защищаться. Я знаю свои границы.
*
На основании первых абзацев «Транс-Атлантика» обо мне сказали, что я дезертир. Это не соответствует истине. В Польшу в те дни уже нельзя было вернуться и ничто не заставляло меня возвращаться именно на судне «Хробрый» в Англию. Призывная комиссия, перед которой я предстал в Буэнос-Айресе, признала меня не годным к несению воинской службы. Вообще, самое лучшее, что можно сделать, это не забывать, что реальность попала в объятия фантазии. Так например, Посольство, описанное мною — это тоже плод фантазии, компиляции многих наших Посольств, а может даже лучше сказать — всех наших Посольств.
Здесь нет и быть не может описания нашей аргентинской эмиграции: тут выступают именно те марионетки, какие были нужны мне и каких требовала композиция. Нет здесь и Аргентины. Я нарочно старался не вводить Аргентину в чисто польскую книгу, а если на каком-то из поворотов действия на первый план выходит в гротесковой подаче группа местных интеллектуалов, то знайте, что этот пассивный и мещанский интеллектуализм, типичный для определенных кругов Буэнос-Айреса, ничего общего не имеет с растущей на наших глазах Аргентиной.
*
Кажется, ничего больше не собираюсь говорить о произведении… которое, будучи сумасшедшим ребенком пьяной Музы, смеется над всеми проблемами и над комментариями автора.
Гомбрович ввел в польский язык неологизм, буквально совпадающий со словом «мордовать» — robic gebe, т. е. делать кому-нибудь (натягивать на кого-нибудь) жуткую рожу, морду, а в слегка «офранцузенном» виде это выражение стало названием одного из его романов — faire d’hideurque.
Сарматизм — идеология польской шляхты XVII–XVIII веков, опирается на тезисы хроникеров XVI в. Меховита и М. Вельского, что польское рыцарство и вышедшая из него шляхта происходят от древних сарматов. Эта фантастическая теория должна была дать обоснование идеологии, провозглашающей неограниченную свободу шляхты. Сарматизм характеризуется национально-государственной мегаломанией, самолюбованием, презрением к иностранцам и иноверцам, поверхностной набожностью, соединенной с фанатизмом, верой в предзнаменования.