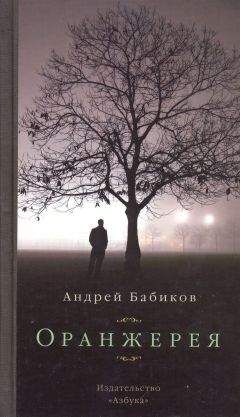— Сударыня, прошу вас! — грозным шепотом говорил он, склонившись над ней. Она что-то лепетала в ответ, нервно комкая салфетку на столе.
Нечет прекратил жевать и прислушался.
— Нет, сударыня, мне это можете не объяснять! — перебил ее официант, и по красным пятнам на его скулах было видно, что он настроен решительно.
«Пьяна она, что ли?» — подумал Марк Он скосил глаза на ее ноги: черные чулки, тонкие икры, туфли на высоких каблуках. Хорошенькая. И такая растерянная. До него донеслись ее слова: «Как же мне быть?», в которых слышалось настоящее отчаяние. Официант склонился еще ниже и зашипел ей в самый шиньон. Через минуту он оставил ее в покое, откликнувшись на зов англичан. Когда он затем подошел к Марку взять со стола пустую тарелку, тот спросил его:
— Что там за сыр-бор с барышней?
— Да что же, обычное дело: платить нечем, — оживился он и, озираясь по сторонам, азартным шепотом принялся рассказывать.
«Девушка эта пришла часа три назад с каким-то господином в шикарном галстуке. Заказали бутылку „Моэта" за пятьдесят марок, трюфелей с телятиной, еще двадцать пять, мороженого и кофе. Всего на восемьдесят марок, не считая чаевых Попили, поели. Кавалер ее извинился и ушел звонить от портье по срочному делу, да и с концом. Она его ждет полчаса — не возвращается. Ждет еще полчаса — нет как нет. Сидит, допивает шампанское. Ну, я уж знаю: пахнет жареным. Спрашиваю ее напрямик: все ли хорошо, не нужно ли еще чего? Да-да, говорит, спасибо, еще папирос „Рояль Блэнд". Ну, думаю, ладно. Принес ей коробочку, а у самого так и свербит в мозжечке я-то уже насмотрелся чудес за три года. И что вы думаете? Проходит еще полчаса: сидит, курит. Лицо бледное, глаза испуганные. Ну, тогда я решаю действовать напрямик молча кладу на стол счет и так, знаете, очень выразительно смотрю на нее. А она еще белее стала и давай рыться в сумочке: ах, кошелька нет, ах, украли! Словом, обычная история. А потом...»
— Прибавьте к моему счету, я заплачу, — перебил его Марк, которому уже наскучил спектакль.
— Правда? — он вопросительно вскинул одну бровь, и глаза его засияли, как новогодние игрушки. — Вот уж спасибо, это я прям не знаю... Избавили от головной боли.
Он унесся и с феерической быстротой вернулся, держа в руках кожаный бювар, в какие кладут счета в дорогих ресторанах. На этом была золотом оттиснута стилизованная заглавная «У», а по краю шла цветочная виньетка.
— Кофе не желаете? За счет заведения,— льстиво предложил он, пристально следя за тем, как Нечет вынимает бумажник из внутреннего кармана пиджака.
— Да, пожалуйста. По-венски.
— Сию минуту, — сказал официант, не двигаясь при этом с места.
Марк вытащил из бумажника сто марок одной купюрой (Замок на обороте и раскрытая книга на просвет), взглянул на счет и положил еще двадцать (Маттео Млетский с волнистыми локонами из-под убора вроде остроконечной тиары, которой тот сроду не надевал). Поймал на себе взгляды англичан, глядевших на него из своего угла с каким-то юмористическим выражением на сырых лицах. Захлопнув бювар, Марк отдал его в благодарные, но не слишком ухоженные руки официанта.
— Очень, очень признателен, — говорил тот, кланяясь и скалясь.
Все так же скалясь, он отступил к столику девицы, беспокойно вертевшей головкой по сторонам во все время этих прелиминарии, и шепнул ей что-то на ухо, глазами указывая на Марка. Наградой Марку было выражение огромного облегчения, появившееся на лице девицы. В ее маленьких ушках сверкали поддельные сапфиры, ее ярко-красные губы, казавшиеся еще ярче оттого, что кожа у нее была мраморной, дрогнули в благодарной, но все еще несмелой улыбке. Чувствуя себя очень глупо, Марк слегка поклонился ей. Приняв его учтивый жест за приглашение, она подошла к его столу. Невысокая и хрупкая, она легко могла бы сойти за гимназистку, если бы не прямой взгляд искушенных зеленых глаз и эти кроваво-красные губы, в углах которых, слегка обветренных, таилось лукавство пополам с любопытством. Ее удлиненные тушью ресницы смущенно дрожали. В худых, безупречной лепки руках она все еще держала скомканную салфетку. В сочетании с ее простым черным платьем, открытость белой шеи и груди казалась чуть ли не вульгарной. Вся сцена была насквозь фальшивой. Нечет мысленно перечеркнул абзац, подумал и смял всю страницу.
— Вы так добры, я вам страшно благодарна, — сказала она, одолевая смущение и сверкая глазами. Марк встал из-за стола, не зная, что сказать. На подбородке у нее сквозь слой пудры просвечивал тонкий косой шрам. — Разумеется, я завтра же отдам вам эти деньги. Скажите только адрес.
— Все это пустяки, — ответил Марк, — в сравнении с тем удовольствием, какое мне доставила возможность помочь вам в этом... недоразумении.
— О да! Недоразумение. Этот человек, этот Виктор... Боже, как я ошибалась на его счет!
— Ну, про счет теперь можете забыть.
— Благодарю вас! Как редко в наше время можно встретить благородного человека! Вы не представляете, какое я пережила унижение в этот вечер. Но... Вы позволите? — И она, придержав левой рукой юбку, ловко присела за его столик.
Конечно, я позволю (он тоже сел, продолжая украдкой рассматривать ее матовые плечи). Еще бы. Эти собранные на затылке пепельные волосы, эта ямка между ключиц с дешевеньким кулоном в виде золотого ключика (от какой крохотной скважины?), гипнотическое очарование юности и потаенные посулы в глубине стрельчатых зрачков, обещающих всплеск эмоций и гармонию гормонов. Конечно. Пусть несет всякий вздор, сладкий, как турецкий мармелад.
Она принялась рассказывать всю историю сызнова. С того момента, как она была восстановлена в правах добропорядочной посетительницы, официант сделался к ней подчеркнуто внимателен. Она скромно попросила стакан воды. Достала из сумки мундштук и закурила папиросу. Марк пил кофе, кивал и делал вид, что сопереживает ей, а сам думал совсем о другом, об одном месте в рукописи, где нужно было поменять имя персонажа, о том, что она лет на шесть моложе его дочери, и — по наклонной — о Розе, о Сперанском, и отчего у них ничего не вышло, и еще, что в годы его молодости вся эта сцена была бы немыслима, и что теперь человек, сидящий за соседним столом, только равнодушно зарывается в газету, а не покидает в возмущении своего места — ведь ясно же, кто она, к сожалению, была: банальная девочка для утех, средней стоимости, с надбавкой за свежесть, каких в последнее время немало околачивается в районе пристани и особенно — на Гвардейском бульваре, да еще, по всему видать, недавно приехавшая на острова из какой-то безнадежной глуши и снимающая комнату со своим сутенером где-нибудь на окраине, на Бреге или Вольном. Что же ей оставалось делать, как не пуститься на хитрость, когда несколько дней сряду льет дождь и никаких клиентов, одна слякоть кругом?
После развода с Ксенией Томилиной двадцать пять лет тому назад (ах вот что мы сегодня поминаем) Марк довольно долго довольствовался ролью разочарованного холостяка в ладно скроенном костюме и шейном платке, не упускающего возможности от случая к случаю снисходительно прижать к своей мохнатой груди какую-нибудь кареглазую прелестницу — благо таких возможностей у него была пропасть с тех пор, как он начал читать лекции в институте. Потом у него была многолетняя связь с молодой актрисой, с которой он сошелся только потому (как он позднее осознал), что она напоминала ему его бывшую жену, о которой пора было бы уже забыть. В сорок лет, вновь примеривая на себя романтический плащ Дон Жуана, Марк понял, что он ему не впору, да и не к лицу, и затворился в своем кабинете. Несколько раз он пробовал завести привычку ходить в дом свиданий на Галерной, как это делывали некоторые из его знакомых (кто по пятницам, кто по средам), но и из этого ничего не вышло: он не умел там держаться непринужденно, его смешила патетика урочного грехопадения и раздражал гвалт кутежей за стеной. Тогда он от безысходности начал присматриваться к смазливым горничным и секретаршам с ремингтонами, нанимавшимся им по объявлениям в газете, но с ними очень скоро начиналась унылая морока, жалобы, обиды, подозрения, козни, пыль неделями оставалась невытертой, а на отпечатанной странице не хватало половины знаков препинания. Кое-как дотянув до сорока пяти и оставшись в своем доме в полном одиночестве, он взял на службу экономку по рекомендации, немолодую полнотелую немку, и решился подыскать себе в качестве «спутницы жизни», чтобы это ни значило, какую-нибудь порядочную женщину лет тридцати, вдову или что-то такое, можно с ребенком, род занятий и степень благополучия значения не имеют. Из дюжины претенденток, которых он по очереди в течение месяца водил обедать в угловое кафе «La Chimere», ни одна не забыла упомянуть, что обожает домашних животных и кулинарию. К концу месяца он научился зевать с закрытым ртом и выкладывать на столе кораблик из зубочисток Оставив и эти попытки назначить судьбе аудиенцию, он взял тайм-аут на обдумьшание следующего хода и впал в состояние скорбного воздержания — во всяком случае наяву, во снах же он продолжал самым жалким образом пресмыкаться перед целым хороводом юных чаровниц и пытливых греховодниц (в одежде, или совсем без, или частично одетых в разные причудливые вещи: шелковые рясы, шальвары, нагольные тулупы поверх ажурного белья, потертые кожаные доспехи до бедер, меховые кацавейки с костяными застежками), многие из которых имели не столь жестокосердных прототипов или двойников в его бурной и беспутной молодости.