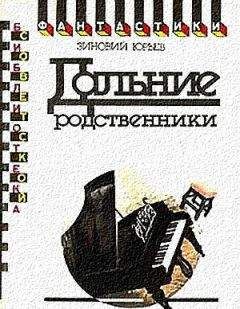И когда я твердо решил это, мне стало даже легче. Я понимал, что не так-то просто будет мне, четырнадцатилетнему парню, добраться до такой дали, как этот далекий Иркутск, но мне всегда все говорили, что не надо бояться трудностей, вот я и попробую, что это значит.
Ни Андреичу, ни Ливанским я не сказал, куда решил уехать. Они по-прежнему думали, что я еду в деревню вместе с Юркой. Андреич, может, и отпустил бы меня, а вот для Ливанских это была бы целая трагедия. Сказал я об этом только Юрке и Оле. Оля вначале чуть не расплакалась, а потом у нее загорелись глаза и она сказала, что я, в общем-то, молодец, а Юрка долго молчал, а потом сказал, что, может быть, мне лучше попроситься обратно в школу, а остальное все само собой сделается. Что-то случилось с Юркой – я его просто не узнавал. Он стал тихий, но не пришибленный, а какой-то спокойный и серьезный.
Почти перед самым отъездом случилась одна вещь, которая чуть не сорвала мне все. В подвал к Андреичу вдруг пришла Мария Ивановна – Капитанская дочка. Она была очень веселая, расспрашивала меня о моем житье-бытье, восхищалась Андреичевыми кораблями и наконец сказала, что мое дело все-таки пересматривается в районо и, наверное, через неделю я смогу опять вернуться в школу. И это очень хорошо, потому что нельзя же мне без конца болтаться без дела.
Она сообщила это так радостно, что мне даже стало не по себе: они там стараются, переживают за меня, а я и забыл почти о школе и думаю только о своих несчастьях. И что я могу сказать, если я даже не обрадовался этому известию, а только сделал вид, что обрадовался. Нет, неправда, конечно, я обрадовался, но не так, как обрадовался бы еще недели две назад, когда еще не решил ехать к маме…
Я что-то говорил и благодарил, а сам думал: ну что стоило ей прийти дня через два, когда я был бы уже далеко и ничего этого не узнал бы, и мне не пришлось бы притворяться. А сейчас, выходит, я должен буду обмануть и Капитанскую дочку и всех ребят, которые, я знаю, ждут меня в школе.
А она радовалась за меня, и Андреич тоже радовался, а я все время боялся, что он скажет ей о том, что я собрался в деревню, но он, молодец, ничего не сказал – видно, догадался по моему виду, что нельзя об этом говорить. И я чувствовал себя по-дурацки и не знал, что мне делать.
Она ушла, и я подумал, что теперь я, наверно, ее долго не увижу.
Когда она ушла, Андреич покосился на меня и спросил:
– Деревня-то побоку?
– Поеду, – сказал я.
– В батьку! – сказал он, и я не понял – осуждает ли он меня за это или наоборот. Скорее все-таки – наоборот…
С Ливанскими я попрощался, а к Нюрочке даже не зашел – она ведь думала, что я уже уехал, и мне лишний раз волновать ее и себя было ни к чему. Дядя Юра как-то по-особенному пожелал мне счастливого пути, а тетя Люка, всхлипывая (что-то она стала часто всхлипывать), сказала, чтобы я берег себя и, если что нужно, чтобы я обязательно написал…
Провожали меня Оля и Юрка. Когда до отхода поезда осталось две минуты и у Оли покраснели глаза, Юрка сказал:
– Т-ты д-давай пиши… и вообще…
Оля засмеялась. Такой я ее и запомнил: глаза красные, а сама смеется, закинув голову…
– И ты пиши, – сказал я.
– А куда же напишу я? – сказала Оля.
– Напиши куда-нибудь, – сказал я.
…Поезд стучал-постукивал и бежал мимо каких-то городов и сел, и поселков и лесов, и рек и перелесков, и стучал по мостикам и переездам, и покачивался с боку на бок и катился далеко-далеко.
…Я не буду рассказывать, как я приехал в Москву, и как я взял билет до Иркутска на Ярославском вокзале, и как я сел в поезд и залез на верхнюю полку и заснул. А потом проснулся, и около меня шевелились какие-то рыжие усы и что-то мне говорили.
– Подъем, подъем, – услышал я. – Так можно все на свете проспать! Смотрите, юноша, какая красота!
Я вначале ничего не понял – я только увидел рыжие усы, которые шевелились около меня. Я повернул голову – и передо мной побежали какие-то картины: озеро и в нем плавают утки, потом лесок и коровы около, потом цветные поля и опять коровы и ели, и сосны… и опять озеро…
Дядька с рыжими усами, похожий на верблюда, спросил, как меня зовут.
– Саша, – сказал я.
– Великолепно, – сказал дядька. – А ну-ка, Саша, слезайте, будем пить чай.
– Спасибо, – сказал я и слез со своей верхней полки.
– Идите умойтесь. – сказал дядька. – У вас есть полотенце?
– Есть, – сказал я.
Я достал свою сумку, расстегнул «молнию» и вынул оттуда полотенце, мыло в коричневой мыльнице, пасту и щетку в зеленом футляре. Очереди не было, и я быстро помылся. Когда я вернулся в купе, на столике уже стоял чай и были разложены всякие припасы, и Верблюдыч, прихлебывая из стакана, говорил что-то другому дядьке, которого я и не заметил раньше.
– Здравствуйте, – сказал я.
– А-а, Саша, – сказал Верблюдыч, – садись-ка.
– Эт-т-та что? – спросил дядька.
Рожа у него была красная, одет он был в полосатую пижаму. У него тоже были усы – не такие, как у Верблюдыча, а маленькие «сопливчики» под носом…
Я сел рядом с Верблюдычем, и он мне подвинул стакан с чаем.
– Тебя как зовут? – спросил полосатый в пижаме.
– Саша, – сказал я.
– А ты кто? – спросил дядька.
– Физик, – сказал я.
– Химик? – спросил дядька.
– Астробиолог, – сказал я.
– Ну, ладно, ладно, – сказал Верблюдыч, – пей чай, Саша…
– Спасибо, – сказал я.
– Вот они – молодежь, – сказал дядька в пижаме и ткнул в меня пальцем.
– Ну чего «они», – сказал Верблюдыч. – Тебе сколько лет, Саша?
– Шестнадцать, – сказал я.
– Знаем мы, – сказал дядька.
– Шестнадцать, – сказал я.
– Ну что вы, в самом деле, – сказал Верблюдыч.
– Я знаю, что я, в самом деле, – сказал дядька в пижаме. – А куда, если не секрет, едете? – спросил он.
– В Иркутск, – сказал я.
– Великолепный город, – сказал Верблюдыч, – я сам оттуда.
– Ага, – сказала «пижама». – А ты что же там – живешь?
– Ага, – сказал я.
– Ага, – сказала «пижама». – Ха-а-роший ты парень…
– Ага, – сказал я.
– Саша, – сказал Верблюдыч, – вы первый раз по этой дороге едете, – я вам хочу красивые места показать.
Мы вышли из купе и стали около окна.
– А к кому вы, если не секрет, едете? – спросил Верблюдыч.
– Секрет, секрет, понимаете, секрет! – чуть не заорал я. – К отцу.
– Великолепно. А он что, там работает?
– Да.
– А где, если…
– Секрет.
– Понимаю. А на какой улице он живет?
Чтоб ты пропал, чтоб вы все провалились, и ты, верблюд несчастный.
Если бы я знал хоть одну какую-нибудь улицу в Иркутске!..
– На улице… Карла Маркса, – сказал я, надеясь, что такая-то улица там наверняка есть.
– Великолепная улица. Главная. А дом?
– Двадцать пять, – сказал я.
У Верблюдыча брови поползли вверх.
– Вы уверены? – осторожно спросил он.
– Уверен, – сказал я в отчаянии.
…Поезд все шел и шел. Стучал-постукивал на стыках и покачивался, и катился далеко-далеко, а я стоял у окна и думал обо всем: о маме, о бате, о Нюрочке – как она там, и о себе, конечно, и мысли эти были не очень веселые, – грустные и непонятные были эти мысли…
– Не сообщить ли в милицию, – сказал однажды дядька в пижаме. Он думал, что я не слышу.
– Что в милицию? – спросил Верблюдыч.
– Насчет пацана, – сказал дядька, – чего-то он подозрительный.
– Странный вы человек, – сказал Верблюдыч.
– Странный не странный, а поколение нынче у ж а с н о е, – сказала «пижама».
– Слушайте, вы… – сказал Верблюдыч.
С тех пор я старался как можно меньше бывать в купе, и, когда Верблюдыч звал меня пить чай, я вначале смотрел, нет ли там этой «пижамы», а уж потом заходил. А Верблюдыч относился ко мне хорошо – стоял подолгу со мной у окна и рассказывал много интересного про Сибирь и ни о чем не расспрашивал.
Не помню, какая это была станция. Помню только, что довольно большая и поезд стоял там долго. Я подошел к окну и увидел, что «пижама» разговаривает с милиционером и показывает на наш вагон, а милиционер кивает и собирается войти в вагон… «Конечно, за мной», – сразу подумал я.
Я кинулся в купе – Верблюдыча не было, – схватил свою сумку и куртку и помчался в другой вагон. Поезд тронулся, и я увидел, как дядька в пижаме лез в наш вагон, а за ним и милиционер, придерживая сумку и пистолет. Я стоял на площадке соседнего вагона и видел, как они оба влезли. Я зажмурился и уже приготовился прыгать, но меня кто-то сильно ухватил за шиворот, и я почти повис в воздухе.
– Совсем чокнулся, – сердито сказал какой-то бас.
Он держал меня за плечо своей огромной лапищей, и я видел на ней синий якорь и надпись. Потом он повернул меня к себе, и я увидел здоровенного молодого парня в клетчатой ковбойке.
Я испугался – может, это проводник? – хотел потихоньку вывернуться, но он заметил и так сжал мне плечо, что я еле удержался, чтобы не заорать.
Но парень оказался пассажиром. В его купе никого не было – только на верхней полке спала, укрывшись простыней, женщина. Парень усадил меня, сам сел напротив, Я сидел опустив голову, и черт знает что творилось у меня на душе.