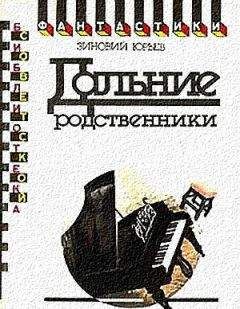– Стучит, – сказал Леня тихо, – стучит, понимаешь?
Он облапил меня так, что у меня затрещали кости, и заорал мне в самое ухо:
– Стучит, понимаешь, стучит!
Я не понимал, и тогда он подвел меня к полке, на которой лежала Зоя, взял мою руку и потянул ее куда-то вверх.
– Ну что ты, Леня, – смущенно сказала Зойка.
– А что? Пусть понимает, что к чему. Не маленький, – сказал Леня радостно и опять взял меня за руку.
Тогда Зоя, улыбаясь, сказала:
– Дай-ка руку, Саня.
Я, ничего еще не понимая, протянул ей руку, и она положила ее осторожно себе на живот. Я боялся пошевелиться и вдруг почувствовал, как будто что-то тихонько толкнуло меня в руку, потом еще раз уже посильнее, и опять еще сильнее кто-то стучался там внутри Зонного круглого, крепкого живота.
– Стучит? – шепотом спросил Леонид.
– Стучит, – так же шепотом ответил я.
– Сын, – сказал Леонид, и Зойка засмеялась.
Я выскочил из купе, стал в коридоре около окна и еще долго чувствовал на лице немного обалделую улыбку, и в мою руку кто-то еще долго тихонечко толкался…
…Иркутск. Мы вышли все вместе – Леонид, Зоя и я, и пока они мешкали с вещами на платформе, я тихонечко зашел за газетный киоск. Я видел, как из того вагона, где я ехал раньше, вышел дядька в пижаме – видно, он ехал дальше, – а за ним сошел Верблюдыч и даже не попрощался с этой «пижамой». А потом я увидел, как Зоя и Леонид начали оглядываться по сторонам, а потом, оставив свои вещи, стали бегать по платформе вдоль поезда.
– Шляпа! – кричала Зоя. – Развесил уши. Где мальчишка?
– Ну, Зойка, ну, Зойка, – бормотал Леонид, – ну, не пропадет же он в самом деле, у него же мать здесь…
– Не верю я, – кричала Зоя, – ты видел, какой он странный. Беда у парня, наверно, а ты бросил… Ко-офий подавать буду… Шляпа ты с ушами!
Я слышал все это и думал – вот сейчас выйду из-за киоска, засмеюсь и скажу: «Ну, чудаки, эх, чудаки – вот он я».
Но я не вышел и ничего не сказал, – зачем я буду еще этих хороших ребят в свои дела впутывать – у них и своих забот хватает.
Они поругались еще немного, потом взяли вещи и ушли. Я видел, как они все время оглядывались. Я подождал еще некоторое время, потом вылез из своего укрытия, сел в автобус и поехал на ту сторону Ангары – в город.
Было начало седьмого, и я сразу же пошел в театр. На афише в вестибюле я прочел, что сегодня идет спектакль, в котором играет мама и… Долинский. Я купил билет, оставил в гардеробной свою сумку и забрался на второй ярус. Не помню, какая это была пьеса. Я ничего не видел и не понимал. Я видел только маму – такую родную, такую знакомую, красивую и грустную. И комок стоял у меня в горле, и я глотал его и никак не мог проглотить. И мне все время хотелось крикнуть: мама, мама! Я здесь, вот он я, я за тобой приехал, ну хоть погляди на меня! Но она не глядела. А потом на сцене появился красивый, грустный и бледный Долинский, и я чуть не задохнулся…
Спектакль кончился, и я, как в каком-то тумане, вышел из театра. Я стоял у служебного входа, спрятавшись за толстым деревом, и ждал, когда выйдет мама. И вот она вышла, и, конечно, не одна, а с Долинским. Он поддерживал ее под руку и что-то говорил весело и словно радуясь чему-то. А мама устало улыбалась и молча кивала головой. Я не подошел к ним. Если бы еще она была одна – тогда я, наверно, не выдержал бы и бросился к ней, но она была с Долинским, и я не подошел, а тихонько пошел за ними.
Они пришли на берег Ангары и сели на скамейку, и Долинский продолжал говорить, чему-то радуясь. Я не слышал, что они говорили, но видел их хорошо, – рядом со скамейкой светил фонарь – и я хорошо видел их глаза и лица. Потом я нечаянно высунулся из-за дерева, и мама посмотрела в мою сторону. У меня так забилось сердце, что я даже испугался, что упаду. Мама только глянула в мою сторону и сразу отвернулась. Потом будто ее что-то задело, она опять посмотрела в мою сторону. Я стоял в тени, и, наверно, ей плохо было меня видно, и она еще несколько раз посматривала, как будто украдкой, а я словно прирос к месту и не мог сдвинуться. Мама еще раз посмотрела на меня и вдруг встала, но сразу же села опять, как будто у нее подогнулись ноги. Она провела рукой по лицу, тряхнула головой и что-то быстро сказала Долинскому. Он посмотрел в мою сторону, но меня не увидел: я быстро спрятался. Он покачал головой, обнял маму за плечи и стал ей что-то тихо говорить, а она прижалась к нему и положила голову на его плечо. Потом отстранилась, взяла его голову в свои руки и посмотрела ему прямо в глаза. Я это хорошо видел. Я видел, к а к она на него смотрела. Она н и к о г д а не смотрела т а к на отца… А потом… потом она поцеловала его так, как она никогда не целовала отца. И я ушел. Я шел, и слезы капали и капали, и мне было так плохо, как еще никогда не было…
Потом я долго стоял на мосту через Ангару и смотрел в глубокую и прозрачную воду, в которой отражались огни станции. Говорят, что Ангара одна из самых красивых рек в мире. Может быть, может быть…
И вот я стоял и думал. Надо ехать домой к отцу, к Нюрочке, надо возвращаться в класс, надо возвращаться в спортивную школу, надо узнать, как там в Ленинграде живут Юрка и Оля, и Капитанская дочка, – в общем, надо жить…
И кажется, я уже немного начал понимать, что к чему. Хотя, наверно, до конца я так и не пойму всего. Наверно, до конца никто не понимает…
1966 г.