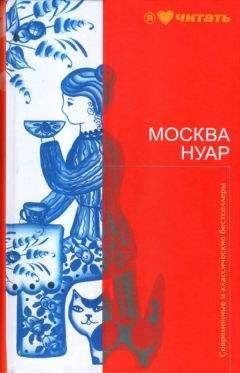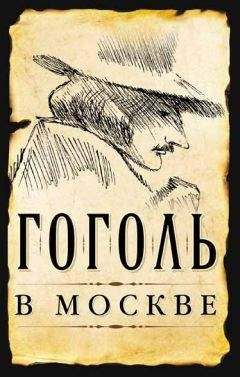— При мне нельзя курить, скотина, ты забыл? А ну-ка выбрось сигарету сейчас же!
— На мой взгляд, — продолжал я, затягиваясь, — таланты между твоими героями распределяются не то чтобы несправедливо, а скорее, попросту недостоверно, нежизненно. Один с неслыханной щедростью наделен всеми дарами: он и красив, как бог, и гениален, как Данте, конечно, бывает такое и в жизни, но в книге это будет смотреться слишком схематично.
— Выбрось, я сказал! — Он пошел на меня, но закашлялся и был вынужден схватиться за свой ингалятор и впиться в него побелевшими губами.
— А вот если твой блистательный Мартын и двух слов неспособен на бумаге связать и терзается своим творческим бесплодием, то тогда другое дело… Мы мгновенно разрушаем плоскость нашего повествования и выходим на подлинную глубину…
Продышавшись, он меня ударил… Я ответил, вдруг увидев пред собой овцу, приведенную на убой, и своим ударом будто вбил в него чувство окончания жизни. Он вдруг ойкнул изумленно и закинул голову: я увидел рыбу, что оставила положенный ей водный слой и всплыла на поверхность с разорванным брюхом. Я увидел его настоящего — изнуренного и обессиленного собственной удачливостью, до распада личности раскормленного приносимыми ему дарами; жизнь его, летевшая все вверх и вверх как будто по блестящим рельсам, вдруг, достигнув пика, покатилась под откос. Я стоял перед ним, закаленный поражениями, привыкший к ним, как волк к бескормице и холоду, и лицо мое имело жесткость и непроницаемость языческого идола.
— Ты за это ответишь! — прогнусил он, зажимая перебитый нос, но звучало это так, как если бы он вопрошал «Что же это такое со мной?». Что-то с ним произошло, слишком глубокое, слишком серьезное для того, чтобы прорваться на поверхность протестующим криком или проявиться в конвульсивной дрожи отказавшихся повиноваться членов. Я попал в наиболее уязвимое место его защитной оболочки, я нарушил герметичность, и космически холодная, неумолимая, безразличная к отдельному человеческому «я» реальность хлынула в пробитую дыру, наполняя душу моего соседа пониманием, что отныне ничего не гарантировано. «Господи, — взмолился он, — неужели я теперь — один из вас?»
Мой сосед надолго замолчал, и я курил теперь, не выходя из комнаты. Едва я появлялся на пороге, он вставал и выходил из комнаты. Один только черт ведает, где Татчук пропадал каждый день столько времени; могу только сказать, что многие студенты видели его гуляющим по Руставели в одиночестве — идущим вдоль стереотипных серых зданий, цвет которых отзывается во рту тошнотворным привкусом электролита, меди, тухлых яиц и густым зловонием сжигаемых автомобильных покрышек. Каково ему было там одному, в этом преддверии ада — не роскошного, с геенной огненной и непрестанными вулканическими извержениями, а унылого, несносно будничного, напоминающего старую чугунную ванну с копошащимися в ней пауками?
С каждым днем я ощущал как будто бы все большее расширение своего бытия и такое же стремительное сжатие, усыхание жизнеспособности соседа.
Восхищенные «прелестным мальчиком» женщины-начальницы из «Профиля» вдруг потребовали от него предварительной демонстрации литературных способностей, и с тестовой статьей на тему «О пользе курения» он с треском не совладал.
У жюри, что разбирало поданные на премию романы, вдруг возникли, по слухам, сомнения в авторстве Татчука (уж слишком зрелым, безупречным, превосходящим уровень двадцатилетнего было представленное произведение), и, не делая скандала, оно предпочло объявить победителем куда более скромного претендента.
Родители вдруг напрочь отказали Татчуку в щедром денежном содержании, и лишь только теперь и открылась мне подлинная картина: само его появление три года назад в нашей заштатной новошахтинской школе было следствием развода родителей, у каждого из коих к тому времени была уже другая, новая семья, а теперь еще и появилось по другому, новому ребенку.
Безграничное обожание в затравленных взглядах, которыми наши студентки провожали Татчука, вдруг оказалось не чем иным, как плохо скрываемым страхом при виде городского сумасшедшего, так он вдруг стал вести себя робко, бормоча при этом что-то несусветно глупое и бессвязное.
И сама его фамилия, Татчук, вдруг представилась мне варварским нагромождением согласных; в самом деле, можно подумать, что у Господа не нашлось более подходящего фонетического материала и он впопыхах сколотил грандиозный собор из обломков деревянного сортира. То ли дело моя — Бессонов — по всеобщему признанию, фамилия будущего классика.
Да и вообще, сказать по правде, мне стало как-то не до него; слишком много появилось не зависящих от Татчука обстоятельств и наметилось событий, так что мне его невольно даже жалко стало, на такое расстояние и на самый край моих потребностей, страхов, упований он отошел. Ну, во-первых, я погряз в любви, познакомившись на ВВЦ с одним бесенком в юбке, чье лицо одновременно и захлестывало твое горло, как петля, и потешно щекотало душу, будто мокрый песий нос. И все было даст ист фантастиш (с катанием на поезде по монорельсовой дороге, с пошловато-романтичным воспарением над Останкинским парком и Шереметевским дворцом) до тех пор, пока моя зазноба не ступила на порог нашей общежитской комнаты. Когда возвратился Татчук, подруга моя уже лезла мне ладонью под рубашку, уже прилаживалась к губам, так что должен сказать, что сосед мой вернулся крайне некстати. Он уселся с нами третьим за стол, я плеснул ему на полпальца вина, а зазноба моя, не стесняясь нимало, продолжила начатое; я поглядел в лицо закаменевшему, напрягшемуся Татчуку, мысленно послал ему последнее «прости» и впустил в свой рот проворный и настойчивый язычок, который бы не сильно удивил, окажись он по-змеиному раздвоенным.
— Грязная шлюха! — вдруг прошипел он, заставив нас отпрянуть друг от друга, вскочил, заметался по комнате и принялся кричать, что не потерпит подобного непотребства, что это его, татчуковская, комната и никто не смеет здесь устраивать животную случку.
— Убирайтесь! — кричал он. — Если вы не уберетесь, я пойду к коменданту!
Я поднялся рывком, сжимая руку в кулак, но, когда Татчук зашелся в кашле, шаря по карманам в поисках своего ингалятора, рука моя разжалась, и, недолго поколебавшись, я не тронул его даже пальцем.
Когда вернулся, проводив ее, Татчук впервые после долгого молчания со мной заговорил.
— Мне плохо, — силился выдавить он, — у меня беда. Меня, по всей видимости, выкинут из института.
— Да ладно, с чего это вдруг?
— Не делай вид, что ничего не понимаешь. Мне срочно нужен новый — хотя бы рассказ. Если я не сдам его к началу мая, то Урусов меня отчислит.
Ладно, настала наилучшая минута для того, чтобы признаться во всем. Татчук вдруг резко начал отвратительно, до убогости плоско писать. «Даже странно, — говорили мне студенты, — что он умудрился написать на первом курсе такую сильную повесть. Может, он не сам писал, как думаешь?» А я лишь хмыкал неопределенно и пожимал плечами. Ну, не кричать же было мне во всеуслышание, что это я тогда слабал за Татчука ту самую нашумевшую повесть. Помог, подправил, целиком переписал. Ну, неразлейвода мы были с ним тогда, и верил я, как идиот, что все, к чему Татчук ни прикоснется, обратится в золото. Мы как будто с ним обменивались силой: я дарил ему расставленные в наилучшем порядке слова, а он мне — избавление от комплекса задрота, ощущение неуязвимости, гарантированность нашей общей, сдвоенной победы.
— Нет, — сказал я, — хватит. Дальше сам.
— Не могу, — вытолкнул он.
— Не можешь — переведись в другой институт, это не проблема.
— Не хочу в другой, я там не справлюсь.
— А чего же ты хочешь? Быть писателем?.. И потом, не в этом дело. Ты думаешь, Урусов такой идиот и ничего до сих пор не прочухал? Он мне тут на днях намекнул, что наши с тобой стили поразительно похожи. Чуешь, чем пахнет? Еще один подлог, и мы вылетим вместе за милую душу.
— Ну, в последний раз! — взмолился он.
— Этот раз действительно окажется для нас последним.
— Ну, тогда я пойду к Урусову и все расскажу. И ты тоже будешь отчислен. А если напишешь рассказ, у тебя сохраняются хоть какие-то шансы.
— Отлично, — говорю, — иди и расскажи.
Он оставил мольбы, но я спинным мозгом предчувствовал: он что-то готовит. Само соседство его сделалось нестерпимым: если прежнего Татчука, венценосного, всемогущего, я мог еще хоть как-то выносить, то этого, нынешнего, — был не в силах. Из щедрого и милосердного бога моего бытия он превратился в непосильную обузу. Преследовал глазами, умолял, а куда мне было деваться, если шесть как минимум часов мы каждый день с ним проводили вместе.
Я угадал: через неделю он выкинул такой безумный фортель, что я до ночи приходил в себя, не в силах избавиться от нахлынувшего бешенства.