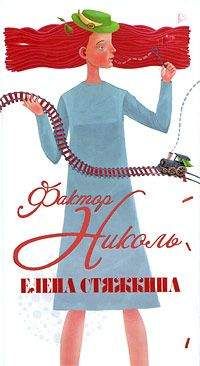Другое дело, правильное дело. Внизу, в подъезде, почтовый ящик. Ключик на брелке американском. И чтобы сердце замерло от ожидания, и чтобы дома, за столом, под чаёк, рассматривать аккуратные Анжелочкины строчки.
Так нет! И уважения никакого нет!
И чего только на это кладбище принесло? Хорошее ли дело – сидеть на лавке посреди могил? Правильное ли? А если не правильное, то к чему здесь эти лавки, плохо покрашенные в неприличный для такого места желтый цвет?..
– Мама, это директор, как ты хотела… – сказала Викуся и спряталась за спиной крупной женщины в брючном костюме.
И костюм этот Вера Ивановна сразу же осудила. Вместе с лавками, собой, поведением Викуси… Брюки на кладбище? Зачем? Ямы рыть?.. А где лопата?
– Мама, это Эльвира Яковлевна. Директор! Как ты просила! – настойчиво говорила Викуся. – Она завтра… Завтра покажет нам план. Мне… Я приеду и разберусь…
– Давно не были? Не беспокойтесь, девочки, – сказала Эльвира Яковлевна. – У нас все под контролем. Я сейчас уезжаю в мэрию, а завтра…
– Кто-то умер? – спросила Вера Ивановна. – В мэрии? Ай-ай-ай, какое горе…
Не очень-то ее это интересовало, просто Вера Ивановна не хотела вдаваться…
Не хотела вдаваться в сроки и причины. Имела всякое право. Давно не была… С похорон не была. А Светка еще деньги на памятник вымогала. Пятьдесят рублей. «Ты – пятьдесят, я – пятьдесят. И будет мраморный памятник». Да хоть крест деревянный. Хоть буденовка со звездой. Раз ушел, то всё! К кому ушел, с того и памятник.
Светка кричала, что это несправедливо, потому что Вера Ивановна – жена, а значит, ей и положено. И что Вера Ивановна – змея, и на поминки ни копейки. А на поминки вообще райотдел собирал, так что нечего врать…
Давно не была. Была один раз. Что означает – никогда.
А теперь подперло будто. Как с цепи сорвалась. Идем-бежим… Все бросить немедленно! И Викуся сдуру: «Мы что-то сделали не так, папа обижается…» Дать бы по башке за такие идеалистические выкрутасы! А как дашь, если сама… правда, не с Пресвятой Девой, а с родиной, зато на короткой ноге и без всяких причащений. Да и Семен придет, спросит: «За что опять на Викусю шумишь?» И будет прав. А Вера Ивановна не любила, когда кто-то прав, а она – нет.
– Никто не умер. Просто надо расширяться. Такая ситуация идет. Демографическая, – пояснила Эльвира Яковлевна. – Город должен выделить немного земли.
– А вы на ней – коттеджный поселок? – строго спросила Вера Ивановна.
Спросила, потому что читала газеты, особенно «Вечерку», и была в курсе. Строительный бум, аферы с землей. Коррупция в органах власти. Олигархи переезжают на природу. Хотят быть поближе к земле. А получается, поближе к Семену. Моя милиция меня бережет. Вот что получается! Вера Ивановна хмыкнула.
– Ну и кто пойдет жить на кладбище? Сами подумайте? – ласково улыбнулась Эльвира Яковлевна.
– Все, – просто сказала Вера Ивановна. – Все. Не своими ногами, но все. Здесь.
– Вы философ…
– Я доцент.
В селе окончила семилетку. Потом на стройке – временно. Очень временно, чтобы через школу рабочей молодежи, чтобы через трудовую биографию. Мама сказала: «Первое дело – трудовая биография и пролетарское происхождение». А когда отца в 1957 реабилитировали, Вере Ивановне это уже не пригодилось. В анкете, в графе «отец» Вера Ивановна привычно рисовала длинную черту. Нету отца… И не было никогда. Ни в подвигах, ни в славе, ни погибшего на фронте, ни взятого в плен. Никакого.
А Шурик обрадовался. Ему лишь бы повод выпить. Он и умер от водки. Замерз в сугробе. В сибирском сугробе, у отца…
А мама сама все это затеяла. Забегала, запыхалась, задышала трудно, с перебоями, разослала запросы. И получила ответ. Из почтового ящика. А не так, как нынче. В письме был адрес. И они поехали воссоединиться. Мама и Шурик.
А Вера Ивановна не поехала. Ни тогда, ни сейчас не хотела она быть незваной гостьей. Ни к отцу, ни к Анжелочке, ни к Семену… К Семену ведь только когда сам позвал! Сам! Так и здесь.
Надо было ждать приглашения, списаться как-то, как-то намекнуть, что, мол, живы, ждем. Вера Ивановна намекала Анжелочке в каждом письме. И о здоровье не том, и об уровне социальной защиты низком, и о коррупции писала в органах власти, и о качестве продуктов, особенно овощей. Личный намек квартерону… А Анжелочка намеков не понимала. Не звала…
И отец не звал… Ведь не звал же! Жил себе, сначала на поселении, потом просто – привык, на работу вышел. Женился, родил детей. Развелся, снова родил детей. Потом стал бегать от одной жены к другой, потому что его сильно мучила совесть. Потому что и там – любовь и долг, и тут – любовь и долг. «А как же мы?» – спросила мама. Зачем?! Зачем унижалась только?! А он ей ответил: «Ты для меня – мечта. Ты у меня в сердце…»
Правильно сказал. С мечтой надо жить в сердце. И не строить ее – ни в виде коммунизма, ни в виде развитого социализма, ни тем более их вместе взятых с человеческим лицом. Вера Ивановна так и писала об этом Горбачеву: «Дайте людям мечту и не мешайте им жить…» Но он не послушался. И мама не послушалась. Поселилась там, в Сибири, с Шуриком. Чтобы отец и к ним бегал. Чтобы у него был не отрезок дистанции, а треугольник. Отрезок может однажды закончиться, а треугольник – нет. Треугольник – это тупик. Вера Ивановна была в этом уверена. И никакой математик не мог убедить ее в обратном.
Что математик… Семен не мог. «Ты прямо камень, Вера… Прямо камень», – говорил он ей. А не нравились бы камни, так не женился бы, наверное…
Семену Вера Ивановна рассказала всё. Без подробностей, без мыслей своих – просто, коротко, по делу. Составила хронологическую таблицу, чтобы не сбиться. Он таблицу выбросил и сказал, что хочет жениться на ней, а не на анкете.
Врал. Вера Ивановна тогда была кандидатом наук, старшим преподавателем. Кроме всего, она была тогда «после Кубы». После Кубы, где три года помогала товарищам поднимать высшее образование.
После Кубы у Веры Ивановны были кооперативная квартира, перспектива роста и Хесус. Если по-нашему, то Иисус. Но по-нашему у Веры Ивановны не поворачивался язык. С Хесусом чуть не вышел грех. Вера Ивановна едва убереглась.
Недавно только призналась себе: жалела. Жалела и тогда, сразу, и теперь жалела, что так. Родина сказала свое веское слово. В сером таком неприметном костюме, с ласковым голосом и практически без лица. Вместо лица – березовый сок, ковыль, одна шестая часть суши и фраза «На страже мира и прогресса». Родина сказала, что, если Вера Ивановна не довезет себя домой в той же целости и сохранности, в которой пересекла границу, то не будет ей больше счастья. Вере Ивановне, а не границе. А вместо счастья случится стыд, забвение и в лучшем случае – сельская школа. А Хесус сказал: «Давай тогда жениться».
А что такое «тогда»? Родина так и спросила: «Что такое «тогда»? А Любовь?»
И Вера Ивановна уехала… А Хесус остался. К себе не звал. И писем не писал.
Мама тоже не звала к себе. И тоже не писала писем. В этом смысле Анжелочка была лучше всех. Она свой долг знала. Как Вера Ивановна знала свой – две десятки с каждой зарплаты отсылала матери переводом. И на десятку звонила по межгороду. Вызывала на переговоры, на телеграф. И сама ходила на телеграф. В кабине задыхалась и плакала, но маме говорила, что все очень хорошо. И мама тоже говорила, что купила корову, нашла Шурику невесту, что отец заходит по понедельникам, что тканей хороших там много и если Вере Ивановне надо, то пусть скажет, каких взять.
На телеграфе случился Семен. Ловил преступника, который воровал почту. Газеты, письма, а особенно – переводы… Из ящиков граждан. Семен предложил идею, согласно которой у преступника мог быть сообщник. Человек из глубин почтовой связи. С самого центрального телеграфа. Идея оказалась правильной. Вера Ивановна стала свидетельницей задержания сообщника. Вид у задержания был скучный, у сообщника – растерянный, а у Семена – бравый. Это несоответствие Веру Ивановну смутило, а Семена обрадовало. И он напросился в гости. Вера Ивановна подумала: «Нахал!» И была, как всегда, права. Много лет после этой неслыханной наглости он притворялся рохлей. Мялся, сидел на краешке дивана, говорил тихим удивленным голосом, занимал мало места, прислушивался к телевизору, вместо того чтобы покрутить ручку громкости, безропотно выносил мусор.
Это должно было насторожить! Столько разговоров было с коллегами по поводу мусора, столько драм семейных разворачивалось прямо на глазах из-за этого помойного ведра. Но Вера Ивановна пропустила. Семен притупил ей бдительность, чтобы потом, через годы – бах – и к Светке, а потом – и вовсе – в гроб!
Нахал, что и говорить…
– Завтра придем, – сказала Вера Ивановна и тяжело поднялась со скамейки. Даже пошатнулась. Викуся поддержала ее под руку.
И Вера Ивановна рассердилась, руку выдернула, спину выпрямила, пошла вперед легкой, девичьей походкой. Не стара! Еще жить и жить… Мама умерла в девяносто. А Вера Ивановна была покрепче мамы.