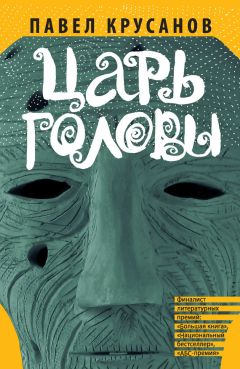Америкой творилось именно это. Ко всему на калифорнийские виноградники катастрофическим образом напала филлоксера – а ведь до сих пор калифорнийская лоза считалась устойчивой перед этой заразой.
Черт! Капитан и впрямь был из тех, кто имел право предрекать. Его безумные предположения действительно обладали властью над реальностью – странной, даже таинственной, но от того не менее результативной.
Что касается меня и Оли, то досадная история с письмами понемногу улеглась и не то чтобы забылась, но затерлась – доставать ее, такую неприглядную, на свет уже не хотелось ни мне, что вполне понятно, ни лютке, что весьма (с ее стороны) великодушно. Ведь если разобраться, редкая барышня не уступила бы перед искусом пырнуть при случае шпилькой пойманного на низости милого дружка. Хотя низость, как и прочий вздор из этого ряда, существует только для тех, кто еще не вышел за человеческий предел, кто не стал трансцендентным. И, раз меня это волнует, значит – для меня.
Немало помогли процессу умиротворения приятные хлопоты, сопровождавшие различные материальные приобретения. Дело в том, что после известия о закладке в Миннесоте сверхглубокой скважины,
“Лемминкяйнен” выписал сотрудникам “Танатоса” приличную – сообразно творческому вкладу – премию. Настолько приличную, что Оля смогла полностью обновить не только весенний, но заодно и летний гардероб
(чему целиком посвятила две субботы и одно воскресенье), а я, продав
“десятку” (у нее стала плохо втыкаться четвертая передача) и прибавив выручку к вознаграждению от Капитана, купил пятидверную
“сузуки-витару” – компактный рамный вседорожник, классную коробчонку тех нарочито угловатых форм, которые давно меня прельщали. Несмотря на то что “сузучке” уже шел второй десяток, выглядела она потрясающе – вся густо-черная от бамперов до люка, но не той хищной чернотой, которая лоснится и бьет в зрачки холодным смоляным блеском, а чернотой особого, теплого и бархатистого оттенка, который называют “жженой пробкой”. Намордник с противотуманками перед капотом “сузучки” тоже был черный – сияли только хромированные пороги и серебристые литые диски. Умереть и не встать. Она была как существо иного мира, как последняя вспышка угасшего сна. Даже смехотворная цифра, на которой заканчивалась шкала ее спидометра -
160, – меня не смутила. В сущности, я никуда не спешил.
Утомленная моими восторгами, лютка тут же окрестила меня “сузукин сын”.
Впрочем, некая трещинка, откуда сквозил неприятный холодок, после той злополучной предновогодней истории в наших с Олей отношениях все же осталась. И она, увы, не была порождением моей природной мнительности – о трещинке этой можно было забыть или ухитриться вовсе ее не замечать, но вопреки учению субъективного идеализма она все равно оставалась и время от времени давала о себе знать зябкими мурашками, без видимого повода резво пробегавшими вдоль позвоночного столба. И Оля, я уверен, отрезвляющий этот холодок тоже чувствовала.
В остальном все было по-прежнему, насколько это возможно в ежесекундно меняющемся мире, отданном на растерзание календарю. Он же – детоядный Кронос. (Впрочем, образ не то чтобы не точный, но подчистую ошибочный. Непонятно, каким вообще образом Кронос умудрился стать расхожей метафорой времени, ведь настоящее – дитя прошлого, именно эта тварь предшественника с потрохами и глотает.
Так же и революции: вопреки будничному заблуждению они пожирают не детей, а отцов – чистейшая социальная эдипка. Но это к делу не относится.)
2
Кнопка звонка на дверном косяке мастерской Вовы Белобокина была оторвана. Вместо нее хищно целил в гостя раздвоенное жало оголенный провод. Пришлось стучать.
Признаться, я не очень понимал, зачем пришел сюда и что собирался здесь делать. Вероятно, это было исключительно спонтанное движение.
Просто вчера в новостях культуры мелькнул сюжет о памятнике Альфреду
Нобелю в Стокгольме, который Королевская шведская академия наук собиралась воздвигнуть к стодесятилетию учреждения Нобелевской премии, – там сообщили, что конкурсная комиссия отдала предпочтение проекту петербуржца Владимира Белобокина, и на экране беззвучно пошевелила губами знакомая лукавая физиономия. Потом показали действующий макет монумента: маленький взрыв на пьедестале походил на бездымную магниевую вспышку. Видимо, столб пламени проходил сквозь особой конфигурации сопло, так как огненный протуберанец имел очертания, приблизительно напоминающие господина в котелке. По крайней мере таким он, выжженный на дне глазного яблока, или что там инкрустировано сырыми колбочками с чуткой слизью, еще некоторое время стоял перед взорами в прямом смысле ослепленных зрителей.
– Кого черти несут? – послышался сипловатый голос Белобокина, и железная, времен дикого постперестроечного капитализма дверь тяжело отошла в сторону.
Вчера вечером мы с ним созванивались и оговорили время моего прихода, так что реплика Вовы носила скорее характер ритуальный, освященный традицией национального гостеприимства, нежели выражала действительное недовольство. Трижды облобызавшись в прихожей, мы прошли в мастерскую, не слишком просторную, но и не тесную – есть где поставить мольберт, принять гостей и уложить безвременно уставшего товарища. Помещение было украшено каким-то бесконечным растением, тянувшимся под потолком по веревочке из поставленного в углу горшка. По стенам висели холсты, картоны и доски ДСП, накрашенные даровитым хозяином. Были здесь и “Усама во чреве”, и триптих “Запорожские казаки подкладывают свинью Гирею”, но мое внимание привлекла лакированная доска, в прошлой жизни, должно быть, исправлявшая должность дверцы или стенки шкафа, на которой из отслуживших свой век разноцветных фломастеров, шариковых, гелевых и поршневых ручек была выклеена композиция, в чьем абрисе легко угадывалась фигура человека с широко распахнутым ртом. По голове человека лупил не то небесный молот громовержца Тора, не то какой-то обыкновенный летающий молоток.
– Нравится? – поинтересовался Белобокин. – Ну любуйся.
– Редкая техника, – сказал я.
– Доска, клей, писприборы. Называется “Перекуем орала на свистела”.
Что-то мне это напомнило. Что-то в сознании прозрачно наложилось друг на друга и осмысленно совпало, будто легла на шифровку дешифровочная сетка, – знаете, как в титрах масленниковского
“Шерлока Холмса”, – и проступил рациональный текст. Ну да, конечно же… Я наконец понял, зачем сюда явился. То есть, оказывается, я подспудно знал об этом, но на уровне рассудка все проявилось только теперь, после невольной подсказки, обретенной возле этой дурацкой доски. Вот именно – я пришел поговорить о Капитане. Ведь Белобокин знал его в том, предыдущем воплощении. Не мог не знать.
– Скажи мне, Вова, ты же был знаком с Курехиным?
– А кто, по-твоему, придумал утюгон? – Белобокин спесиво приосанился.
– Ты?
– А то! Моя идея. После я его усовершенствовал – подвесил утюги не на веревки, а на дверные пружины. Появились, знаешь, такие певучие обертона…
У стены стоял деревянный письменный стол, покрытый пятнами пищевого происхождения и случайными отпечатками краски. Из презрения к условностям Белобокин даже не застилал его бумагой – он был непримиримый враг стереотипов. Я выставил из полиэтиленового пакета на стол бутылку водки и пузырь нарзана.
– Молодец, хорошо подготовился, – одобрил мои действия Вова и выгреб из тумбы стола две рюмки, два граненых, старого времени стакана и пакет с обсыпанными маком сушками. – Я водку люблю. Она полезная – холестериновые бляшки стирает. А если ее на грибы положить – вообще сказка. Пробовал? Только вот грибы у меня кончились. Не рассчитал.
Надо этой дряни в сезон побольше сушить – запас карман не тянет.
– Что он был за человек? – попробовал я навести Белобокина на желанную тему.
– А в Германии водку на тридцать семь градусов разводят – от налогов уходят, фашисты гребаные, – не сдавался Вова. – За это бы им ноги из жопы повыдергивать или новый Сталинград устроить, чтобы до морковкина заговенья помнили! Чтобы вспоминали и ужасались. Что это за водка такая – тридцать семь градусов? Нет такой водки. И не должно быть.
Я налил полноценную, сорокаградусную, исполненную по заветам
Менделеева и другим рецептам старинного времени водку в рюмки, а
Вова – нарзан в стаканы.
– Кто был с ним рядом в последние годы?
– А еще некоторые там, за бугром, водку в голубые бутылки разливают, – сказал в ответ Белобокин. – Додумались! Это же на вид чистый купорос получается! Или того хуже – “Нитхинол”… Ты будешь купорос вместо водки покупать? И я не буду. Зачем мне купорос? Мне водку надо. Она полезная – холестериновые бляшки стирает. Еще бы в тетрапак запечатали, как ряженку. – Вова поднял рюмку. – Ну за радость наших редких встреч!