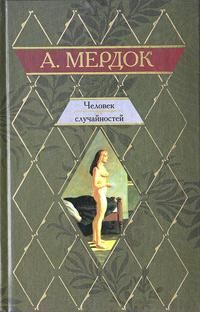Представляя себе, как он обнимает нагого куроса, Тео опустился на камни и подложил под себя руки. Пирс стоял между ним и водой, дергаясь и содрогаясь своим коричневым телом, как узник в цепях, на фоне сияющей голубизны моря и неба.
— Держи свою черноту внутри себя, — сказал Тео, — не передавай другим.
— Если я буду держать это внутри, я умру, наверно. Был ли ты когда-нибудь безнадежно влюблен, дядя Тео?
— Да. — Бессмысленно даже пытаться описать это, подумал Тео, вжимая ладони в гальку.
Вяло ссутулясь и гримасничая, Пирс подобрал свою одежду и медленно пошел по берегу в направлении, противоположном тому, куда ушли близнецы. Тео хотел, было, позвать его назад. Но потом подумал: о, дай ему уйти, с бесплодной любовью ничего не поделаешь, ее нужно просто перенести, я перенесу. Я перенесу.
Он поднялся, но не пошел за Пирсом. Он пошел туда, где вдалеке сидели близнецы и рядом с ними Минго. Они не играли в перья. Когда он подошел поближе, то увидел, что Генриетта плачет.
Минго встретил Тео так, будто они не виделись год. Тео сел рядом с Генриеттой. «Перестань, малышка, не горюй. Пирс очень несчастен, ты ведь знаешь. А когда люди несчастны, они порой заставляют других страдать чисто автоматически».
— Зачем он это сделал? — крикнул Эдвард возмущенно. — Если он был ему не нужен, так вернул бы нам. Он был такой красивый.
— Это был самый красивый из всех, — хныкала Генриетта. — Эдвард не хотел дарить его, а я его уговорила, только чтобы порадовать Пирса. О, если бы я этого не делала!
— Никогда не жалей о добром поступке, — сказал Тео, — в нем больше смысла, чем ты думаешь. Пирс будет извиняться, и вы должны простить его.
Близнецы, слегка поспорив, согласились, что они простят Пирса. Генриетта еще оплакивала печальную судьбу аммонита на дне моря, но Тео и Эдвард стали вместе утешать ее, представляя, как счастлив он будет среди крабов и рыб, и насколько там лучше, чем в пыльной спальне Пирса.
Зачем я сделал это, спросил себя Пирс, натягивая брюки. Я скажу им, что прошу прощения, думал он, но что толку. Ну ладно, наплевать. Я ненавижу всех. Наверно, я становлюсь плохим, как говорит Барбара. Ладно, я — плохой, и я буду плохим.
Барбары сейчас не было, она гостила у школьной подруги в городе. Пирс надеялся, что ее отсутствие принесет ему некоторое облегчение хотя бы в форме апатии, но не мог справиться с острой болью ее отсутствия. Его черное настроение и в ее присутствии, несущем непредсказуемую муку, влекло за собой непоследовательность, но сейчас оно становилось все острей и определенней, как если бы он готовился к последнему, разрушительному порыву. И его физическое влечение к далекой, призрачной Барбаре казалось еще более, как в насмешку, болезненным, чем его желание реальной девушки из плоти и крови.
Он не мог заставить себя не ходить все время за нею и провоцировать ее, пока она не сказала совершенно ясно, что она собирается в город на выходные, чтобы избавиться от него. Они сильно ссорились, и Пирс, возвращаясь к себе в комнату, находил у себя на кровати все предметы, которые когда-либо дарил Барбаре. Он брал реванш, возвращаясь к ней в комнату и ломая у нее на глазах все вещи, которые она когда-либо дарила ему, включая великолепный, на все случаи жизни годный нож, привезенный ею из Швейцарии, прежде он берег его как зеницу ока.
Пирс, уже одетый, но босой, стоял на краю сверкающего моря. Он смотрел на перекатывающиеся подводные камни, которые солнце высвечивало в зеленой толще воды, тихой, но внутри нее, как в несовершенном стекле, плавали пузыри. Он думал: я ее как-нибудь накажу, я сделаю это. А потом я пойду в пещеру Гуннара, возьму и останусь там, и утону.
Мэри перелезла через низкую стену кладбища. Ее бело-голубое платье задело за сверкающий край теплого камня, и тонкая струйка земляной пыли просыпалась в сандалии.
Вилли шел чуть впереди нее, медленно ступая по переплетенным корням плюща. Он двигался ритмичным шагом танцора, мягкая таинственная пружинистость плющевого настила подбрасывала его тело.
Мэри остановилась, облокотясь о стену. Она не торопилась догнать его. Горячий день был наполнен плотным, пыльным, благоуханным молчанием, Мэри экстатически вдыхала его в себя. Кукушка откуда-то издалека отметилась среди молчания, как будто поставила знак или подпись. Мэри думала, я ленюсь. Я не спешу. Она думала, теперь я веду его. Она улыбнулась при этой мысли.
Из этой части кладбища ничего не было видно, кроме серо-белых памятников, устремляющихся в преизбыточный свет, и восьмиугольной церкви; по ее стенам, заметила Мэри, начинал ползти плющ. Когда-нибудь плющ полностью закроет церковь, как уже произошло со многими надгробиями. Над могилами сияло пустое небо, бледная, бесцветная сияющая пустота.
Мэри пошла параллельно направлению хода Вилли. Ее ноги в сандалиях ощущали волнистую поверхность упругого плюща, который как бы опускался под ногой, но земли не ощущалось. Хождение по воде, наверно, похоже на это, подумала Мэри, тогда вода ощущалась бы как плотный, чуть прогибающийся материал, поддерживающий стопы. Она остановилась и потрогала железную решетку, окружающую один из обелисков, запачкав руку ржавчиной. Она чувствовала, что Вилли приближается к ней все ближе. Материя летнего дня соединяла их тела так, что, когда он двигался, она чувствовала, что ее тело тянется вслед, как на буксире. Сегодня мы как сиамские близнецы, подумала она, мы соединены сегодня особой тонкой растягивающейся эктоплазмой.
Теперь Вилли улегся прямо на плющ, как делают дети. Мэри подошла и, увидев, что его глаза закрыты, села совсем рядом, опершись спиной на один из камней, тот самый, с которого Пирс недавно так старательно соскребывал плющ, чтобы открыть взорам чудесно вырезанный на нем корабль с парусами.
Вилли, почувствовав по качанию плюща, что Мэри рядом, сказал:
— Привет.
— Привет.
Мэри некоторое время спокойно смотрела на белизну волос Вилли, рассыпавшихся по плющу. Его лицо было таким маленьким и коричневым, его нос так тонок, его руки так изящны и костисты. Она вспомнила, как птичья лапа обхватывает чей-нибудь палец, — нежное и путающее чувство.
— О чем ты думаешь, Мэри?
— Как раз о кладбище. — Она не могла рассказать ему о птице.
— И что?
— О, не знаю. Я чувствую, что у всех этих людей была мирная, счастливая жизнь.
— Этого нельзя сказать ни о каких людях.
— Еще я чувствую их присутствие. Но все эти мертвые теперь преобразились.
Мэри замолчала. Она не ощущала, что они враждебны или потревожены, и все-таки кладбище пугало ее, но это не было так уж неприятно, особенно в такие дни, в которых была плотность полуночи. Во что они преобразились, думала она. У нее не возникало представлений о черепах и гнилых костях. Она представляла их вокруг спящими с пустыми темными глазницами, спящими с открытыми глазами.
— Ты дрожишь, Мэри.
— Я в порядке. Я просто перегрелась на солнце.
— Я вылечу тебя моим магическим камнем.
Мэри непроизвольно выставила руку, чтобы поймать что-то зеленое, летящее к ней. На миг она подумала, что оно сейчас упадет глубоко в плющ, но ее рука проворно отбросила это себе на колени. Это был кусок полупрозрачного зеленого стекла, из которого море сделало почти совершенный шар.
— О, как красиво! — она приложила шар ко лбу. — Какой холодный.
— Как ты так мило поймала его своей юбкой. Помнишь сказку про принцессу, которая нашла принца, прятавшегося среди девушек, бросая мяч каждой девушке. Все девушки расставляли ноги, чтобы поймать мяч, и только одна — это и был принц — сжала их.
Мэри засмеялась. Она ощущала связь между их телами как тугой, густой водоворот почти видимой материи. Вилли встал, опираясь на могильный камень. И Мэри подумала: как бы я хотела, чтобы он оперся о меня и положил руку на колени.
— Не показывай близнецам это стекло, — сказала она. — Иначе они его у тебя выпросят.
— Но я тебе подарил.
— О, спасибо! Она закрыла глаза, перекатывая прохладный шар по лбу, потом по крыльям носа и щеке. Она произнесла: «О, Вилли, Вилли, Вилли».
— Што такое?
— Ничего. У меня такое странное чувство. Расскажи что-нибудь. Расскажи о какой-нибудь мелочи, игрушке, которая была у тебя в детстве, о твоем первом дне в школе, о каком-нибудь старом друге, что-нибудь.
— Ладно, я расскажу тебе о самом ужасном случае в моей жизни.
— О! — Она подумала, сейчас это случится, он расскажет, дай Бог мне вынести это.
— Мне было шесть лет.
— О!
— Мы отдыхали на Черном море летом, — продолжал Вилли. — Каждое утро я ходил с моей нянькой в городской сад, она садилась и начинала вязать, а я делал вид, что играю. На самом деле я не играл, потому что я не умел играть при людях и я боялся других детей. Я понимал, что полагалось, чтобы я бегал, я и бегал и делал вид, что я делаю вид, будто я — лошадь. Но я все время беспокоился, что кто-нибудь взглянет на меня и поймет, что все это одно притворство, и что я совсем не беззаботное играющее дитя, а несчастное, бегающее взад-вперед существо. Я бы хотел просто сидеть рядом с нянькой, но она не позволяла, а говорила, чтобы я бегал и радовался жизни. В саду были и другие дети, но в основном они все были старше меня, и у них были свои компании. Но вот однажды в сад пришла светловолосая девочка с черно-белой собачкой. Няня девочки уселась рядом с моей няней, и я начал играть с собачкой. Я был слишком скромен, не осмеливаясь не то что заговорить с ней, но даже просто рассмотреть ее как следует. На ней было голубое бархатное пальто и маленькие голубые ботиночки. Я и сейчас как будто вижу их. И это было все, что я осмелился увидеть за первые дни. Она была неопределенным существом где-то рядом, я играл только с собачкой. Я любил играть с собачкой, это действительно была игра, но еще больше я хотел бы играть с девочкой, но она приходила и садилась рядом со своей нянькой, хотя нянька не раз ей говорила, что она может со мной поиграть, если хочет.