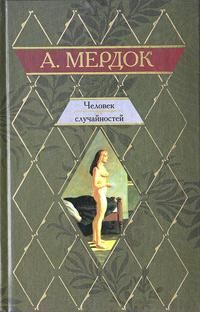Потом она стала садиться ближе ко мне, когда я ласкал собаку, и однажды, когда я сидел на траве с собакой, лежавшей рядом, она подошла и тоже села рядом, и тогда я спросил, как зовут собачку. Я и сейчас помню теплую гладкую спину собачки, которую я гладил, а она трепала ее за уши, и я могу видеть ее лицо, каким я увидел ее в первый раз — круглое, розовое, сияющее, мерцающее лицо. У нее были короткие, очень светлые волосы, и у нее был такой смешной маленький сердитый рот, и я любил ее. Мы немного поговорили, а потом она пригласила меня поиграть. Я был одиноким ребенком и не умел играть с другими детьми. Я не знал никаких игр, в которые можно было играть с кем-нибудь, я умел играть только один. Я сказал, что хотел бы поиграть с ней, но не знаю как. Она стала учить меня играть, но я был слишком туп и слишком старался понять, и, по-моему, в этой игре должно было участвовать сразу несколько человек. В конце концов, мы просто играли с собакой, бегали с ней, дразнили ее, пытались выучить фокусам. Теперь я каждый день рвался в этот сад, чтобы увидеть девочку, и был очень счастлив. Сейчас я понимаю, что скорее всего это были самые счастливые дни моей жизни. Однажды я подумал, что хорошо бы подарить что-нибудь девочке и собачке, и я уговорил родителей купить маленький желтый резиновый мяч, чтобы играть с собачкой — мы бы его кидали, а собачка приносила бы его обратно. Я не мог дождаться следующего утра. Я горел желанием показать моей подружке желтый мяч и кинуть его собачке. На следующий день я пришел в сад, и там была девочка в синем пальто и синих ботинках и вокруг нее бегала черно-белая собачка. Я показал ей желтый мяч, и я кинул его собачке, и та побежала за ним, поймала его, и он застрял у нее в горле — она задохнулась и умерла.
— О, Боже! — сказала Мэри. Она приподнялась и встала на колени в плющ. Развязка истории случилась так внезапно, что она не знала, что сказать. «Как же так… Вилли… Что случилось потом?»
— Больше я ничего не видел, нянька увела меня. У меня была истерика целый день, а на следующий день началась лихорадка. А потом нам пора было возвращаться домой. Больше я никогда не видел ту маленькую девочку.
— О, Вилли, — сказала она, — мне так жаль, так жаль…
Воцарилось молчание. Далекий крик кукушки дырявил тишину. В голове Мэри, как на старой потемневшей открытке, появилась сценка, затмившая кладбище перед глазами. Она увидела общественный сад, сплетничающих нянек, воспитанных, прилично одетых детей, резвящуюся собачку. Отчаянно ища слова, она хотела спросить, как звали эту девочку. Она спросила, как звали собачку.
Молчание. Она подумала — он не помнит. И взглянула на него.
Вилли сидел совершенно прямо, обхватив руками колени, по его лицу текли слезы. Наполовину открытый рот скривился, и после двух попыток он смог произнести: «Ровер. Это был английский терьер, было модно давать им английские имена».
— О, мой дорогой, — сказала Мэри. Она неловко подвинулась к нему, стараясь держаться прямо на упругой поверхности. Она склонилась над ним, обняв его одной рукой и уткнувшись лицом ему в плечо. Вилли вытер слезы чистым носовым платочком. Мэри обняла его другой рукой, так что она смогла сцепить руки, и потерлась щекой о его пиджак. Она почувствовала, как его тело напряглось в ее объятиях, и подумала: его это совсем не успокаивает, не утешает. Она сжала его крепче и отпустила. Яркий воздушный свет удивил ее, будто она побывала в каком-то темном месте.
Она сказала:
— Послушай, Вилли, послушай и не думай, что я сошла с ума. Ты на мне женишься?
— Что?
— Я спросила, женишься ли ты на мне.
Мэри сейчас стояла на коленях напротив него. Он все вытирал лицо платком. Он передвинулся, подобрав одну ногу под себя. Его взгляд медленно прошелся по кладбищу, а когда он вернулся снова к лицу Мэри — его лицо совершенно преобразилось, оно вдруг стало сияющим, живым, радостным. Мэри только раз видела такое выражение его лица, когда однажды застала его приплясывающим под музыку Моцарта.
— Чудесно, чудесно, чудесно! — сказал Вилли. — Этого мне еще никто никогда не предлагал! — Потом, когда Мэри заговорила, он добавил тихо, почти неслышно:
— Я же импотент, знаешь ли…
— Вилли, Вилли! — раздался резкий крик с другой стороны кладбища, они повернулись и увидели Барбару, торопливо перелезавшую через стену. Она стремительно понеслась к ним. Ее ноги почти не касались темно-зеленой подстилки.
— О, Вилли, Мэри, вы не видели Монроза?
Оба сказали, что нет.
— Я искала его повсюду, но его нет, нет нигде уже давно, а он раньше никогда не исчезал, он даже не пришел попить молочка, а Пирс сказал, что он, наверно, утонул, и…
— Ерунда, — сказала Мэри. — Кошки не тонут, они слишком умны для этого. Он вернется наверняка.
— Но где же он? Он не такой, как другие коты, он никогда не уходит.
— Ну, а теперь, — сказал Вилли, с трудом поднимаясь с плющевой подстилки, — вернемся домой вместе, и я помогу его искать. Я думаю, он где-то рядом, спит под кустом. Я помогу искать его.
— Но я искала повсюду, и уже давно прошло время, когда он пьет молоко, и он всегда приходит…
Вилли, уводя ее, говорил с ней низким, поющим, успокаивающим голосом.
Мэри осталась на месте. Но вскоре она медленно поднялась. С внезапной тревогой она подумала о зеленом стекле, подаренном Вилли, который он кинул ей, как принц, отыскивающий принцессу, только, конечно, в сказке все было наоборот. Когда она вскочила, чтобы обнять его, шар, наверно, куда-то закатился. Она начала искать, погрузив руку по локоть в глубину ветвистой изнанки плющевых зарослей, но, хотя она шарила долго, она так и не отыскала зеленый шар.
Обширная литература по римскому праву была придумана на основе относительно небольшого количества источников, из которых основная часть была сомнительна из-за включенных в тексты интерполяций. Дьюкейн иногда подозревал, что его страсть к этому предмету была своего рода извращением. Б науке есть определенные области, и к ним принадлежит история Греции и римское право, где скудость фактов бросает вызов дисциплинированному уму. Это похоже на игру, в которой надо из разрозненных кусочков составить определенный рисунок, и чем опытней игрок, тем она сложнее. Отдельный, малоговорящий факт должен быть вплетен в ткань гипотезы так искусно, чтобы она стала значительной, и вот занятие этим плетением увлекало Дьюкейна. В то же время он не находил интереса в борьбе с обширным фактическим материалом, ставшим доступным в последние годы. В его предпочтении явно играл роль определенный эстетизм вкупе, возможно, с пуританской природой, предпочтение он отдавал тому, что было аккуратно, отделано, доказуемо и полностью истолковано. Все эмпирическое только смущало Дьюкейна. Единственный, но зато постоянный источник недовольства в занятиях своим сухим и ограниченным предметом таился в том, что чаще всего темы, заинтересовавшие его, уже давно были исследованы в Германии.
Сейчас Дьюкейн только что вернулся с вечера, проведенного вдвоем с Октавиеном, во время которого они, хотя у них были другие намерения, говорили о работе. Он сидел на кровати, перелистывая работу, написанную им еще в бытность в Олд-Соулз о проблеме «буквального договора», и размышлял, включить ли его в сборник эссе, который он вскоре собирался выпустить в свет под названием «Загадки и парадоксы римского права». Он понимал, что хорошо бы заняться другими делами. Он должен был бы написать письмо Джессике по поводу того, когда им лучше встретиться. Он должен был бы написать предварительный отчет о расследовании дела Рэдичи. Первое он отложил потому, что написанное им было бы наполовину ложью. А второе потому, что он еще не решил, как поступить с Ричардом Бираном.
Попытки разных подчиненных Дьюкейна — Джорджа Дройзена и других — выйти на след Елены Троянской провалились. А обыск sub rosa,[16] на который он наконец получил разрешение, в доме Рэдичи и знакомство с его банковским счетом не принесли никаких значительных результатов. Обнаружилась только одна странная вещь, да и та имела, скорей, негативный характер: хотя библиотека Рэдичи содержала много книг по магии, но не удалось обнаружить ничего из тех предметов, употребляемых при обрядах, о которых говорил Мак-Грат. Дьюкейн со стыдливым любопытством ожидал, что познакомится с этими предметами, но ничего даже близко похожего не нашлось. Дьюкейн пришел к выводу, что Рэдичи, наверно, уничтожил их перед самоубийством, что доказывало тот факт, что уход из жизни был заранее обдуманным, а совсем не импульсивным. Но этот вывод принес мало пользы расследованию.
Дьюкейн все откладывал и собирался и дальше откладывать момент, когда он потребует у Бирана объяснений, потому что это была его последняя надежда. Отчет спецслужбы о Биране не содержал, как он и предполагал, ничего интересного, а его собственные розыски и размышления пока не принесли плодов. Он не мог найти никакой зацепки, чтобы объяснить странную роль Бирана в этом деле, и не хотел допрашивать его, не имея серьезных козырей. Биран был очень умным человеком, и вряд ли с ним можно было блефовать, утверждая, что «все известно». Очень мало что было пока известно, и, конечно, Биран знал об этом. Дьюкейн в душе не сомневался, что отношения Рэдичи с Бираном каким-то образом могли разрешить загадку самоубийства, но все же он понимал, что это пока недоказуемо, это лишь предположение. Биран лгал о своем знакомстве с Рэдичи, он моментально обнаружил, что Рэдичи убит, и он же зачем-то передвигал тело убитого. Но если Биран предпочтет отговориться тем, что он лгал просто потому, что нервничал и двигал тело из спонтанного любопытства, что можно ему возразить? А то, что он так быстро оказался на месте убийства, вполне могло быть случайностью.