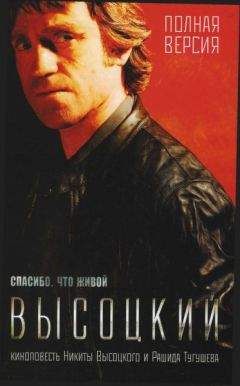* * *
Володя повернулся к регистраторше.
— Как зовут его?
— Не запомнила, но он не местный — из Ташкента. Я бы пропустила, но...
Володя еще раз посмотрел в сторону мужчины, на которого указала регистраторша. Вслед за ним повернулись и Фридман, и Леонидов, и Таня.
— Спасибо. Капитан, жди здесь. Я сейчас решу все. — Володя улыбнулся Татьяне и зашагал к Михалычу, внимательно наблюдавшему за происходящим.
— Володя! — окликнула его Татьяна. — Это он у меня паспорт забрал!
Володя остановился — Фридман перегородил ему дорогу, широко расставив руки.
— Не ходи. Татьяну я отправлю потом. Будь взрослее. Они же провоцируют тебя. Не надо. Наоборот, покажи, что тебе все равно. Что они ей сделают за паспорт? Чем меньше ты реагируешь, тем лучше. Этот человек — он очень на многое способен. Это очень непорядочный человек. Он умеет давить на самое больное.
—Ты что-то знаешь, Леня?
— Да, знаю. Я знаю, что им нужен ты. Не я, не Татьяна — а ты. И поэтому не ходи. Всем будет лучше, если ты просто уедешь. Хочешь, я пойду к нему?
— Не хочу. Я сейчас. Как его зовут?
— Виктор Михалыч.
Володя отстранил Фридмана, но тот схватил его за руку.
— Он будет говорить тебе про меня. Это правда, прости.
Володя взял Леню за плечи. Леня поднял голову и посмотрел Володе в глаза.
— Леня! Что бы он ни сказал—ты мой товарищ. Был и будешь. Не трясись.
Высоцкий направился к Михалычу.
— Я с тобой. — Фридман устремился за ним.
Володя, подойдя, слегка замялся — подавать или не подавать руку?
— Виктор Михалыч? Здравствуйте. По-моему, я вас где-то видел.
— Я вас тоже. Здравствуйте. Давайте зайдем, а то мы как на сцене.
Действительно, вся очередь на регистрацию смотрела на них. Михалыч открыл дверь и пропустил Высоцкого вперед, затем повернулся к Фридману.
— А ты куда? До тебя еще дойдет очередь. Стой здесь. Не пускай никого.
— Я вам не швейцар!
— Ты не швейцар. Ты — сексот. Делай, что тебе говорят, — отрезал он.
Фридман опустил голову.
— Хорошо, я постою.
Но как только дверь за Михалычем закрылась, Фридман рысью помчался к выходу на площадь.
Володя ожидал Виктора Михайловича в зале с роскошными креслами, полированным столом с двенадцатью стульями, с цветным телевизором, небольшой барной стойкой. За широкими окнами открывался вид на летное поле.
— Это что же, пыточная тут у вас?
— Нет, это депутатский зал. Располагайтесь. Времени мало, давайте сразу к делу.
Михалыч удобно устроился в мягком кресле.
— Отдайте, — сказал Володя.
— Что? — Михалыч удивленно вскинул брови.
— Да то, что взяли.
— Вот это? — Михалыч вытащил из кармана паспорт, положил его на стол. — Или вот это? — Он достал ампулу и аккуратно поставил ее рядом.
Володя помрачнел и присел на край кресла.
— Паспорт.
Михалыч раскрыл паспорт Татьяны.
— Ивлева Татьяна Петровна подозревается в совершении действий, предусмотренных статьями 221 и 223 УК Узбекской ССР—незаконное приобретение, хранение и транспортировка наркотических средств, дала объяснение и подписку о невыезде.
Он извлек из портфеля бумаги с подписями Татьяны.
— Это — лекарство... Оно принадлежит мне.
— И это?
Михалыч достал коробку «ZЕВО-ZЕВО», открыл ее и вытащил упаковки с ампулами.
— Тридцать семь ампул, а было сорок. Начали, стало быть, лечение?
— Вы как разговариваете?!
— А как бы вы хотели?
— Да-да, мне же говорили — посадят, покажут ампулу, и все подпишешь. Что-то подписать?
— Нет.
— А зачем тогда?
— Нарушен закон. Совершено преступление.
Михалычу нравилось, как держится Высоцкий.
Никакого высокомерия, истерики... Он ничего не изображал и даже не пытался скрывать, насколько тяжелый удар получил, но все-таки его следовало дожать... для его же пользы. «Какой-никакой, но все-таки выход. И для Высоцкого, и для Ивлевой».
— Это мое. Пиши! Это все мое, — прервал паузу Высоцкий.
— Понимаю. Хотите взять на себя. Благородно. Надеетесь, что вас не тронут? Может быть. Только ей вряд ли поможете. Пойдет по тем же статьям как соучастница. А деяния станут групповыми. Срок больше.
— Испугал! — Высоцкий вдруг перешел на «ты». — Дальше-то что? Не просто же так ты со мной разговариваешь. Что делать предлагаешь?
Михалыч выдержал паузу и, стараясь быть предельно корректным, мягко и тихо стал объяснять:
— Езжайте в Москву. С вами сразу же свяжутся. — Он намеренно делал паузы, чтобы его слова отчетливей доходили до собеседника. — Наверное, будут выдвинуты какие-то предложения. Если вы их примете, я думаю, дня через три Татьяна Петровна будет в Москве. — Он откинулся на спинку кресла, давая возможность обдумать сказанное. — Пока арестовывать ее не станем. Фридман устроит ее в ту же гостиницу. Даже допрашивать не буду. Обещаю, слово офицера. До ваших московских решений.
— Да каких решений?
— Этого я не знаю.
— Прошу тебя...
— Все в ваших руках, — оборвал Михалыч. — Договаривайтесь в Москве.
Володя немного посидел в раздумье, потом молча встал и направился к двери. Но вдруг обернулся и заговорил очень спокойно и рассудительно:
— Вы ее задерживаете, чтобы меня на поводке держать? Кто-то уже руки потирает... Огорчу. Как это сказать? Не пойду на сотрудничество. Ни в Москве, ни здесь. Потому что тогда вы Татьяну точно не отпустите. Она будет сидеть, а я на поводке бегать. Так я ее угроблю. Этот способ для тех, кто за шкуру свою боится. Вроде оправдания — «ТЬг же не ради себя, ради нее». А мне, Виктор Михалыч, жить на две затяжки осталось... — Он подошел к Михалычу и уселся напротив него в кресло. — Так убедительно вы мне все рассказали, слово офицера дали... А позвонят сейчас: «Михалыч, к ноге!» В ошейнике всю жизнь. Кажется, такая полезная вещь. Как без него? Не поймем мы друг друга. Дайте бумагу.
Михалыч занервничал. «Если Высоцкий сейчас подпишет признание, то отпустить его в Москву будет невозможно. Зачем я приказал поставить микрофоны?..» Он представил себе, как замер в соседней комнате Серый. «Были бы мы одни — можно было бы все объяснить... Посоветовать этому усталому больному парню, как выкрутиться самому, как помочь Ивлевой. Какие слова написать на этой бумажке...»
Усилием воли Михалыч взял себя в руки.
— Что собираетесь писать? Владимир Семенович!
— Правду.
— Не поверит никто. Самооговор. Мотив понятен — хотите помочь близкому человеку. У меня — признание Ивлевой, подкрепленное вещдоками, тонны оперативной информации, а у вас—слова...
Володя засучил рукав рубахи, обнажив исколотые вены. Михалыч оторопел.
— Вы хоть понимаете, что делаете? Ладно, тюрьма — пережить можно. Но это?!
Он вытряхнул содержимое коробки на стол, ампулы разлетелись и попадали на пол.
— Это же такая мерзость! Все отвернутся, даже близкие.
— Отвернутся — значит, не любили, — помолчав, ответил Володя. —А вдруг не отвернутся?
Высоцкий грустно улыбнулся. Михалыча вдруг поразила очень простая мысль. Сидящий напротив него человек не врет, он действительно готов прямо сейчас перечеркнуть всю свою жизнь и остаться здесь, в ташкентской жаре, в любой, самой вонючей камере... Михалыч покраснел. Ему стало мучительно стыдно. Играя даже не в свою, а в чужую игру, он, Михалыч, поставил Высоцкого перед страшным выбором — и тот выбрал. Не рисуясь, не боясь последствий. И что теперь делать? Вызывать конвой? Везти Высоцкого в изолятор? Продолжать бессмысленную, не имеющую никаких реальных целей игру? Ведь никто в Узбекистане не возьмет на себя ответственность за арест Высоцкого. Его отпустят через два часа.
Михалыч наконец собрался. «Пусть на два часа, но я останусь самим собой! Сделаю все по правилам, по инструкции. Доиграю. А дальше не мое дело!»
Высоцкий вопросительно смотрел на него и чего-то ждал. «Чего он ждет? Ах, ну да, ему же нечем писать». Михалыч достал из портфеля авторучку и завертел ее между пальцами.
— А Ивлева?.. Она ведь тоже сидеть будет.
— Даже ваш суд Татьяну отпустит. Нет выбора у меня, по счастью.
Володя был бледен, но совершенно спокоен.
— А у меня? — вырвалось у Михалыча.
— Думаю, есть, — рассудительно ответил Володя. — Отпусти ее прямо сейчас. Знаешь, как у Пушкина: «На волю птичку выпускаю». Люди птиц из клетки выпускали, чтобы самим свободнее немного стать.
«Как у него все просто. Отпусти! Мне что же, по Пушкину жить теперь? Вместо устава? „Я помню чудное мгновенье...“?» Но он прав, если сейчас отпустить Ивлеву—станет легче. Он во всем прав. Он все решил вместо меня».
Из раздумий Михалыча вывел треск раскрывшейся двери. В комнату не вошел, а ворвался Фридман. Он прижимал к груди мусорную урну, из которой валил черный дым. Он вломился с ней, как с горящим самоваром, водрузил прямо на полированный стол перед Михалычем и с криком «Вот так, начальник!» сунул туда пачку корешков-билетов.