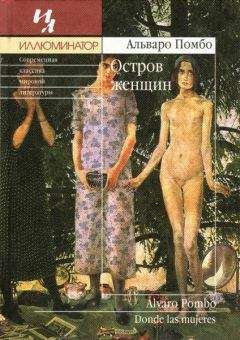Было замечательно обсуждать все это с Томом, хотя это и не было счастьем. Беседуя с ним о счастье, я чувствовала себя в безопасности — меня не постигнет участь тех служанок, которые выскакивают замуж, как только их женихи возвращаются с военной службы. В то время уже было в ходу дурацкое словечко «соединяться», в котором и заключалось счастье этих девиц и вообще всех слуг. Стремление к счастью и его достижение лишь усиливали их зависимость. Они были счастливы и плыли по течению, не учились, не двигались вперед, только толстели, отращивая зады размером с большую супницу. Кривая счастья образовывала замкнутый круг, совершенный в своей глупости и именуемый удачным замужеством. «Слава богу, — говорила я самой себе, — я не счастлива и не хочу быть счастливой. И замуж не хочу». Однажды в конце мая, с апломбом и развязностью двадцатидвухлетней девицы, которой в этом мире почти все ясно, я заявила Тому:
— Знаешь, почему ты всегда поддавался очарованию тети Лусии? Потому что она была несчастна. Если бы вы поженились и были счастливы, она бы в конце концов тебе надоела.
Я сидела на своей лестнице и смотрела на море сквозь окантованный алюминием прямоугольник окна. В тот вечер я пришла пораньше в комнату с инструментами, где Том теперь проводил больше времени, чем с нами или тетей Лусией. По правде сказать, он совершенно преобразил маленький розарий и все остальное, что росло перед главным входом в башню и постоянно цвело: посаженные в беспорядке и предоставленные самим себе герани, китайские гвоздики и бегонии, образуя взлохмаченные клумбы, словно блуждали по небольшому пространству, которое мы, вслед за тетей Лусией, называли «передним садом». Том совершил чудо, просто подправив клумбы и дорожки и приведя в порядок то, что раньше было сделано кое-как. Поэтому в тот весенний, уже почти июньский вечер мы были одарены не только запахом моря, но и сладковатым ароматом роз и запахом вскопанной, рыхлой, обильно политой земли — символа того, что я за неимением настоящего счастья и совершенства превозносила как «великий успех Тома».
Скорее из желания похвалить его, чем вернуться к прежней теме, я заявила, что, поскольку он столько времени посвятил браку, садоводству и постижению счастья, тетя Лусия теперь пожинает плоды его трудов, которые освещают ее, словно нимбы — головы архангелов. Видимо, из-за моей склонности к напыщенному и витиеватому стилю это прозвучало забавно, потому что Том рассмеялся, но ничего не сказал.
— Знаешь, я не считаю, что молчание — золото, — сказала я и повторила то же самое по-немецки: — Weiβt du, Tom? Schweigen ist kein Gold für mich.
Том ответил, что, возможно, так и есть, просто он не знает, что сказать, но все же продолжил:
— Vielleicht hast du recht. Was kann ich aber sagen?[57][3]Ты уже все сказала, и в одном ты, к сожалению, права: Лусия несчастна.
— Я так сказала?
— Да, как бы между прочим, когда произносила свою триумфальную речь насчет счастья слуг. Твоя тетя несчастна, и это горькая правда, но она не годится в качестве доказательства, да и вся твоя речь, детка, — это слова, пустые слова…
Именно в тот вечер Том рассказал мне о взглядах Фихте на брак и любовь.
~~~
Теперь я меньше разговаривала с мамой и гораздо больше — с Томом; возможно, именно поэтому я меньше с ней и говорила, словно существовала некая квота, и на обоих ее не хватало. Однако была и другая причина, и я не могла ее не признать: меня уже не так, как раньше, интересовало ее мнение по тем или иным вопросам. Мама казалась как никогда молчаливой и при этом как никогда довольной. Впрочем, в своем безотчетном увлечении Томом я обращала на нее мало внимания. «Том — мое зеркало», — думала я, поскольку видеть себя отраженной в другом человеке было невероятно ново и увлекательно. А иногда я думала, что Том мне вроде отца, но проходило время, и я подыскивала ему еще какое-нибудь определение. «А зачем мне вообще определения? — спрашивала я саму себя и отвечала: — Затем, что я разумное, мыслящее существо и должна объяснять любое свое действие». Однажды я подумала, что разговариваю с Томом, так как ни с кем больше поговорить не могу. «Возможно, нас с Томом объединяет то, что ни он не может поговорить с тетей Лусией, ни я с братом, сестрой или мамой так, как раньше, когда любой разговор с ними доставлял удовольствие». А еще я подумала, что это и есть конец моего детства и юности.
Однажды вечером мама исчезла, то есть не пришла домой, когда все собрались к чаю, причем самым удивительным было то, что никого это словно не интересовало. «Где мама?» — наконец не выдержала я. «Наверное, отправилась в Летону за покупками и задержалась», — ответил Фернандито. Такой ответ, абсолютно нормальный для любой другой семьи, в нашей прозвучал странно. После чая все разошлись по своим комнатам, а в двенадцать ночи я услышала, как подъехала машина. Это оказалось такси, из которого вышли мама и папа, однако папа тут же уехал. Все это было совершенно непонятно, но я не могла ничего обсудить с Виолетой, поскольку не была уверена в ее реакции. Мне стало так грустно, словно случилось какое-то несчастье.
На следующий день за завтраком мама сказала, что вчера вечером они с отцом были в Летоне, ходили в кино. «Какая глупость», — подумала я, понимая, что думать так не менее глупо. Я рассказала обо всем Тому, возможно преувеличив немного свое возмущение, которое в тот момент считала абсолютно оправданным, но слова Тома возмутили меня по-настоящему.
— Не понимаю, почему они не могут сходить в кино?
— Как это почему? Потому что это предательство по отношению ко мне!
Том рассмеялся, но, увидев мое серьезное лицо, объяснил, что смеется не надо мной, а как раз над моей способностью к преувеличениям.
— Ладно, я не сержусь, — сказала я. — Понимаешь, много лет мама с папой жили отдельно, и я с семи примерно до восемнадцати лет слышала, что они расстались, так как не любили и не понимали друг друга, к тому же папа был легкомысленным, и я всегда его таким представляла. А теперь, если они вместе идут в кино, значит, он уже не легкомысленный и никогда им не был, или это мама стала легкомысленной? Я ничего не понимаю, и мама обязана мне все объяснить.
— Твоя мама ничего не обязана тебе объяснять, — жестко сказал Том, поразив меня до глубины души.
— Но она говорила одно, а получается совсем другое.
— Дети никогда не понимают родителей, — сказал Том, — да и незачем им их понимать. Семьей начинаешь дорожить, когда ее уже нет.
Я была так удивлена и уязвлена суровостью Тома, что не нашлась, что возразить, и хотя чувствовала себя смешной и глупой, все-таки сказала:
— Ты, наверное, не понимаешь, насколько тесно мы были связаны с мамой, мы были подругами, даже больше, чем подругами.
Том смотрел на меня задумчиво и внимательно, как врач, и мне было приятно его беспокойство, хотя в тот момент я еще не ощущала потребности в чьей-то особой заботе. Наконец он сказал:
— Но вы уже не подруги, теперь вы мать и дочь. Возможно, я не тот, кто должен это говорить, а возможно, этого вообще не нужно говорить.
На том разговор и закончился, что-то помешало нам его продолжить, хотя Том, скорее всего, и не осмелился бы это сделать, а я не желала его слушать. У меня было неоспоримое право чувствовать себя оскорбленной, но в то же время я понимала, что правда на его стороне, не на моей.
~~~
Планы матери Марии Энграсиа полностью совпадали с божественным промыслом, и несомненным доказательством этого служила Виолета. Возможно, из-за столь претенциозного совпадения понадобилось два долгих и нелепых года, которые я тоже считала предначертанием божественного провидения, прежде чем я отошла от мамы ради Тома. (Как позже выяснилось, я ошибалась, и столь протяженное во времени отдаление объяснялось еще пятью причинами и разными другими обстоятельствами.)
«Во-первых, призвание не терпит спешки, а во-вторых, оно дается далеко не каждому», — вещала мать Мария Энграсиа, сидя в гостиной на черном стуле с прямой спинкой; мама внимала ей с открытым ртом, а присутствовавшая при этом тетя Лусия курила сигарету за сигаретой, закапывая окурки в керамический горшок с гигантской аспидистрой, которая даже здесь, в монастыре, напоминала ей art déco[58] и собственную ветреную молодость.
По словам мамы, из них двоих говорила только тетя Лусия. Среди прочих достойных упоминания вещей она заявила: «Вы, сестра Энграсиа, слишком погружены в себя и не различаете, чего хочет девочка, а чего — Господь, но ведь сахарная свекла все равно не станет сахаром, даже если ее поднести на дорогом подносе». Слова насчет свеклы тетя Лусия отрицала, но было ясно, что она себя не сдерживала, а мы знали, что бывает, когда она не сдерживается. На этой идиотской встрече настояла мать Мария Энграсиа, которая — хотя и была уверена, что время божественное и время земное измеряются по-разному, — считала ее устройство своим пастырским долгом, поскольку создавалось впечатление, что в свои двадцать лет Виолета не в состоянии думать о Боге или о чем-нибудь еще долее двух-трех минут. Но как раз эта «быстрота», эта «живость», эта «постоянная смена влюбленностей» для матери Марии Энграсиа были убедительным свидетельством того, что Господь «достиг ее сердца». «Девочка все время пребывает в беспокойстве, и это понятно, так как голос, который шепчет ей: „Оставь все и следуй за мной“ — самый чистый из всех, и чтобы не слышать его, ей приходится быть в постоянном движении. Со мной происходило абсолютно то же самое. Настоящее призвание всегда начинается с отрицания, смятения, желания делать все наоборот. Я очень хорошо знаю вашу дочь, хотя я, да будет вам известно, не была наставницей ни Виолеты, ни других девочек, их наставником был дон Луис, наш духовный глава, а я только приобщала их к истине. Не пыталась повлиять, ни в коем случае, а просто слово в слово излагала божественные истины, понятные и очевидные, и этого было достаточно. А то, что теперь она такая беспокойная, и по двадцать раз на дню переодевается, и без конца меняет кавалеров, и прочее, и прочее, и прочее — это все для того, чтобы не слышать голос Бога. Но чем сильнее она волнуется, чем чаще меняет женихов и одежду, тем лучше его слышит, потому что душа Виолеты уже давно принадлежит Господу. Я ей говорила: „Мы сначала тебя испытаем, и если тебе в монастыре не понравится, ты уйдешь“. Конечно, вы понимаете, что это своего рода хитрость, уловка. Я и с матерью Фелисианой, которая обучает послушниц, советовалась, а уж она предана Богу, как никто. Пусть она попробует, и я уверяю вас, стоит ей вкусить сладость религиозной жизни, и она проникнется ею, потому что Господь этого желает. Душа ее раскроется и начнет впитывать духовную благодать, как губка впитывает воду и солнце, а для нас это и есть призвание — вручение себя на веки вечные единственному божественному супругу. Виолета по природе своей — его нареченная, я в этом не сомневаюсь, потому что знаю ее много лет. К тому же она уже совершеннолетняя, и ей не потребуется согласие родителей: понравится семье то, что она полностью посвятит себя Господу, или нет, не имеет никакого значения».