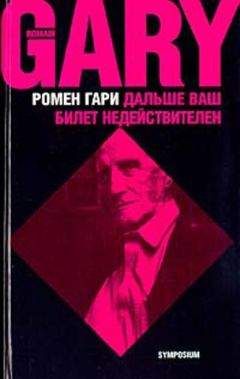— И что он сказал?
— Надежды никакой, — громко и отчетливо ответил Вандерпут.
Я быстро посмотрел на Кюля — глаза его полыхнули бешеной ненавистью.
— Пойду приготовлю ему травяной отвар. Он это любит, — сказал Вандерпут.
Он встал и пошел в ванную, где у него стояла спиртовка. Едва он вышел, как Кюль напрягся, тщетно пытаясь приподняться на локте и все-таки заговорить.
— П… п… пи-о… — вырвалось у него.
Глаза его чуть не лопались от натуги. Я видел: он из последних сил старается что-то мне сказать. Мучительно медленно он дотянулся рукой до подушки и что-то потянул из-под нее кончиками пальцев. Я наклонился — это был конверт.
— Пычт… пычт… — пробормотал Кюль.
— Вы хотите, чтобы я отправил это письмо по почте?
— М-м-м… — замычал он, и лицо его осветилось безумной радостью.
Я взял письмо, адресованное некоему месье Фримо, проживающему в доме номер 37 по улице Маронье, и положил его в карман.
— Хорошо. Не беспокойтесь, я все сделаю.
Через несколько дней Кюль умер среди бела дня, видимо, улучив момент, когда Вандерпут выходил в туалет. Старик взял на себя хлопоты о похоронах и проводил тело друга в последний путь. Он шел за гробом, весь в черном, с платочком в руке, а следом за ним мы с Леонсом и Крысенок, ведущий под руку Папского, которому по такому случаю мы нацепили на рукав черную креповую повязку. Последними плелись Рапсодия с венком в руках и итальянец, непрерывно каркавший по-вороньи, «для полноты картины». На кладбище к нам присоединились бывшие сослуживцы Кюля из полицейской префектуры. Мелкий моросящий дождь добавлял унылости погребальной церемонии. Вандерпут позаботился перетащить большую часть вещей Кюля к нам на улицу Принцессы сразу же, как только того разбил паралич, — чтобы, как он нам объяснил, избежать формальностей и полицейской волокиты. Среди этих вещей оказалась чуть не сотня записных книжечек в сафьяновых переплетах, исписанных аккуратным бисерным почерком. Вандерпут решил «из деликатности» сжечь их не читая. Сложил все книжечки в камин в большой гостиной, поджег и с каким-то мрачным удовлетворением наблюдал, как их пожирает пламя. Когда же все сгорело, он глубоко вздохнул:
— Ну вот!
Вечером после похорон он не вернулся домой. Это было довольно странно — обычно старик почти не выходил из дому и всегда рано ложился. В три часа ночи меня разбудил страшный шум. Я вскочил с постели и выбежал в коридор, где уже собрались все наши.
— Ну, брат, дела! — сказал Леонс.
Вандерпут, в зюзю пьяный, стоял прислонившись к стенке. Он был в грязи, со спутанными волосами, трясся от идиотского смеха и пел во все горло, притопывая в такт и потрясая кулаком:
Супружница подо-охла!
Э-гей, гуляй, рванина!
Никто мне не указ!
Тут он высоко задрал руку и ногу.
Подохла образина!
Ура, ура, ура!
После этого он недели две валялся в постели, не выходил из комнаты и не смел показываться нам на глаза.
Прошло еще немного времени, и на нас обрушилось несчастье: правительство изъяло из обращения пятитысячные купюры. Это был траурный день. Мы сгребли все купюры в кучу, засунули их в камин и разожгли большой костер. Вандерпут, забившись в кресло, смотрел, как превращается в пепел наше состояние, а потом еле встал. Казалось, он разом постарел на десять лет.
— Ну и времена настали, — сказал он. — Ни на что нельзя положиться. Ни стыда ни совести ни у кого не осталось, и ладно бы еще отдельные люди! Но правительства! Пожалуй, покойный Кюль был прав, и я уж подумываю, не проголосовать ли за коммунистов на следующих выборах. Рубль — вот единственные стоящие деньги.
Он ушел в себе и два дня лежал носом в стенку.
— Придется возместить ущерб, — решил Леонс.
Мы стояли на лестничной площадке шестого этажа, у окна, выходящего на улицу Кюжа. Окно было открыто, справа виднелся фонтан Медичи и начало Люксембургского сада.
— Весна! — сказал Леонс.
На подоконнике резвились воробьи: вспархивали, гонялись друг за другом, снова садились и опять взлетали с радостным чириканьем. Леонс засмеялся:
— Во дают пичуги! У них тоже весна!
На старой пыльной лестнице пахло конторой, лежалой бумагой, но парижская весна ухитрилась и сюда внести частичку веселья и света; в окно врывалось небо, а вместе с ним уличный шум и гам. Ветер гнал по небу облака и доносил до нас слабый, несмелый запах деревьев. Мне казалось, что он исходит из далекого прошлого и поднимается на высоту шестого этажа для меня одного. Левой рукой я крепко сжимал в кармане томик, с которым никогда не расставался, — это придавало мне уверенности в себе и заставляло сердце биться не так сильно. Глядя на небесный калейдоскоп из белых и голубых лоскутов, я чувствовал, как горечь в душе понемногу сменяется грустью, и перебирал в уме всю цепочку событий, которая привела меня сюда, на шестой этаж дома по улице Кюжа.
— О чем ты думаешь? — спросил Леонс.
Он стоял, прислонившись спиной к стене, жевал резинку и улыбался.
— Так… ни о чем… Пытаюсь понять.
— Что понять, чудак?
Я неопределенно повел рукой:
— Да все это…
Леонс посмотрел на небо.
— Ну-ну… Только чтобы понять все это, — он повторил мой жест, — надо сначала выучить латынь. Известное дело. Думаешь, почему во Франции все идет наперекосяк, — потому что люди не учат латынь. А потому ничего не могут понять. Вот так-то.
Я засмеялся.
— Да нет, я серьезно говорю, — обиделся Леонс. — Кто владеет латынью, тот добьется всего. Он знает, что и как. Он всюду главный. У него есть все: и атомная бомба, и пенициллин. Во Франции всего-то пара сотен человек осталась знающих латынь. У них вся сила. А остальные работают на них. Известное дело.
Он все жевал свою резинку и глядел на облака. Я высунулся из окна. Внизу у самого тротуара пристроился «ситроен», рядом, привалившись к дверце, стоял Крысенок. Он заметил меня и помахал рукой. В машине, конечно, сидел барон, застывший, расфуфыренный, с гвоздикой в петлице. Я закурил, нервно затянулся и выбросил сигарету в окно.
— Опаздывают, — сказал Леонс.
И тут я услышал сигнал: два длинных гудка, один короткий. Я еще крепче сжал книжный корешок в кармане, выглянул на улицу. Крысенок завел машину. Из выхлопной трубы вырывались клубы дыма. У меня перехватило горло, я посмотрел на Леонса:
— Пошли?
— Не спеши, — сказал он. — Им надо подняться на три этажа, а нам только спуститься на два… Надеюсь, на этот раз не прогадаем.
Я промолчал. Леонс перегнулся через перила. Уже были слышны гулкие шаги по деревянным ступеням.
— Ну, тронулись потихоньку.
Мы осторожно пошли вниз. Я слышал только нарастающий гул, тяжелые, неровные шаги все ближе… Видел коврики у дверей и белые таблички с названиями фирм: «Акционерное общество…», «Аудиторское бюро», «Энергоучет», «Обмен валют». Как и ожидалось, их было трое. Один рылся в кармане — искал ключ. У другого висел на плече зеленый холщовый мешок с буквами «Ф. Р.» — «Французская Республика». Третий, помоложе, сразу понял, кто мы, и вздернул ручонки. Этот из полиции, подумал я.
— Вы тоже, да поскорее, — сказал Леонс.
Двое взрослюг моментально задрали руки. Легавый пожирал взглядом наши лица, будто внушая: «Погодите, вы у меня еще попляшете…» — но нас не проймешь, мы бывалые.
— Иди-ка сюда, ты, с мешком.
Инкассатор шагнул вперед. Он держал руки вытянутыми прямо вверх, со сжатыми кулаками. Рукава пиджака сползли, из-под них виднелась старенькая поношенная рубашка — видно, он надевал ее только на работе. На вид — типичный счетовод, у которого все всегда в ажуре. А такое с ним впервой.
— Можешь опустить руки пониже, папаша, — сказал я ему. — А то устанешь. Согни в локтях-то. Вот так..
— Извините, я просто не привык. — Он облизнул губы побелевшим языком. — Будь я вашим отцом…
— Знаю-знаю, — перебил я его и ловко снял мешок у него с плеча.
— Вы за это ответите, сопляки, — прохрипел легавый.
— Повернись-ка, милок.
Он с перекошенной рожей и поднятыми руками повернулся лицом к стенке. Я подошел к нему, отстегнул подтяжки и дернул вниз брюки. Под ними он носил белые трусы до колен. Они дрожали мелкой дрожью. Я сдернул и трусы.
— А ну, красавчик, вылезай из порток.
Он шагнул в сторону, я поднял его штаны. И вдруг третий взрослюга, тот, что до сих пор стоял смирно, с открытым ртом и держа руки вверх, согнулся пополам. Это был старик, из кармана его плохонького плаща торчал пакет с едой. Наверное, какой-нибудь курьер, мелкая сошка.
— Хе-хе-хе! Хе-хе-хе! — заблеял он по-козлиному. Скрючившись, он все же старался не опускать руки.
Беднягу так и разбирало.
— Хе-хе-хе-хе-хе!