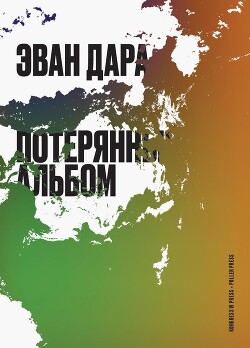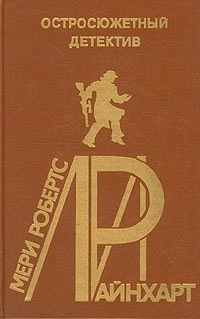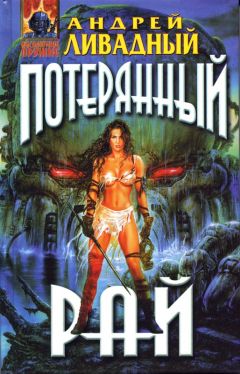Тогда я тут же прихожу в себя, встаю за пультом, потому что вой был громким; и оглядываюсь, и очевидно, что где-то что-то пошло не так — что-то реально пошло не так; и вижу, что Кенни тоже бросил все, что делал, выпрямился и вышел из образа; и я бегу к краю кулис у авансцены и выглядываю за просцениум, и тут вижу в семи-восьми рядах от сцены мужика, где-то лет под сорок, здорового и в бежевом костюме, но с распахнутым воротом и перекошенным набок галстуком; и он стоит в конце правого ряда у оркестровой ямы, раскинув руки по сторонам, и бьется спиной и затылком о стену зала, прямо-таки бьется снова и снова; и, типа, он сплошь выпученные глаза и зубы, и ревет, просто ревет во всю глотку:
И ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ О
О
И ЧТО ТЫ
ЧТО ТЫ
Сперва зал, кажется, думает, что это часть представления: все на своих местах, смеются, обернулись к нему или с улыбкой переглядываются с соседями, но скоро становится понятно, что это по-настоящему, что это не отрепетировано, и тогда все вскакивают и убираются подальше от бешеного; и начинаются крики и ужас, и все приливают к противоположной стене, и толпа проталкивается как можно дальше; и тут все начинают спотыкаться друг о друга, лезть по головам, типа, все панически торопятся по узким рядам или забивают проходы; и посреди этой неразберихи пытается пробраться охрана, но их утягивают тела, стремящиеся в другую сторону, синие формы барахтаются и пытаются пробиться через распуганную публику:
Тут я чувствую, что у меня за правым плечом дышит Кевин, один из работников сцены: он тоже вышел посмотреть; и вот мы просто стоим и смотрим на этого мужика, на этого несчастного мужика, как он просто-таки бьется затылком о стену и бушует, просто-таки бушует, руки, пиджак и конец галстука трепыхаются, и все трясется — бедолагу целиком охватил мозговой хаос:
Тут Кевин говорит, с уважением, что он читал о таком, о том, как человек может внезапно спятить — что у некоторых просто запрограммирована предельная близость к допустимому отклонению, потом однажды эта изначальная слабость каким-то образом пробуждается и узел развязывается:
ПОТОМУ ЧТО УТРАЧЕННОЕ
НЕ ВЕРН
Тогда наконец черный охранник из «Афанасьевского» сумел пробиться через толпу и вывалился в пустоту перед бешеным — пустоту из-за того, что вся публика смылась в другую сторону; тогда охранник, подняв обе руки перед бедным неудачником, подходит к нему реально медленно, реально медленно, пытается уболтать, но бешеный просто бросается со своего места у стены и нападает на охранника, а тот отскакивает назад в кресла и спотыкается; и теперь люди реально занервничали, все серьезно напряглись, хоть бешеный и метнулся обратно об стену, — и вот тут Кенни медленно идет к бешеному со стороны сцены, приближается, держа руки на высоте груди; и пытается успокоить, заговорить, шажок за шажком, говорит медленно и мягко:
— Ну все, мужик…: просто успокойся… просто выдохни…
ПОТОМУ ЧТО ОНО ПОХОРОНЕНО
ОНО ПОХОРОНЕНО В МОЕЙ КРОВИ
— Ну все, мужик, ты справишься…; да, у тебя получится…
И Я ПОХОРОНЮ
Я ПОХОРОНЮ ВАС В СВОЕЙ КРОВИ
И Кен подходит, и он совершенно спокоен, и, приблизившись, вытирает себе лоб, и все говорит, просто спокойно говорит:
— Потому что берег каменистый, и шаги толкутся и теснятся, но ноги не тонут, я ковыляю ко шву во времени, здесь, где небо проглатывает море: Дай мне подойти так близко, чтобы увидеть, что тебя не достигнуть; скажи мне, что это приостановленное падение, мое продвижение, есть приближение к тенденции, чтобы я достиг мимолетности и прозрачности — прозрачности непроницаемой; покажи мне, что мое страдание растет, поскольку это константа, а сам я уменьшаюсь; научи меня видеть нежность в этом ужасе — вечность моей хрупкости; разреши мне черпать силы из этой бесконечности, где шаг сливается со скольжением, а различие становится сходством; дозволь мою неистощимость; покажи, что я шаблон для подтверждения времени, когда двигаюсь так быстро, что не вижу перемен: Ты тень на генеративном краю меня: будь достижим, но невозможен; докажи мою конечность, растянутую бесконечно; научи видеть, что, страдая, я продолжаюсь; сделай из моей мимолетности нечто долговечное…
— Короче говоря, да — можешь себе представить? — вот я снова сажаю деревья, но в этот раз сделанные из языка — и там и там все дело в корнях, понимаешь ли (как видишь, я буквально-таки горожу огород) — (эм-м…) — но се есть правда; знаю, наверняка тебе кажется, что я переменчивая, вся такая эксцентрично-непостоянная, но просто парень, с которым я жила, оказался чуток шизиком — ох уж этот мой дар к неестественному отбору, — и потому подошло время перемен, снова, подальше от этого маньяка с его музыкой, — и Хомский тут полная-преполная противоположность: он страстный, но сдержанный, бесконечно благоразумен, однако ж извечно открыт для дебатов и дивергенции (-тности?) — и вот так я начала с ним работать / исследовать / учиться / развиваться — на фоне фонем! — и се есть верно: Хомский едва ль не первым (так мне мыслится) выдвинул соображение об универсальной грамматике (видимо, в противоположность «парамаунтной» или «XX века-фоксовой») (прости) (ну правда, не удержалась) — се есть врожденная языковая способность, то есть лингвистическое умение, входящее в наш большой злой биологический арсенал, — и теперь, лет тридцать спустя, это все еще сомнительно, многим еще не хочется в это верить — но я верю (ноя, верю), подстригая тут свои языковые деревья…
— Дорогая Робин — я ее обожаю, правда, как и ее письма на едином дыхании; вот это я дочитаю позже: слишком хорошее, чтобы прикончить одним залпом — слишком изобильное, слишком богатое полезными элементами; мы с ней мыслим так похоже, хотя это она вечно скачет по миру, пока я сижу тут в Хантсвилле и представляю себе, что тики часов — это тюремные прутья или штриховка на гравюре, обозначающая тень, все более глубокую; иногда я гадаю, отчего происходит ее ветреность: от внутренней бури или внутренней уверенности, это выражение силы или слабости; во всяком случае, я для нее — открытая дверь, уже на подсознательном уровне; она проникает в меня с неожиданных сторон, находит еще нехоженые дороги…
…И ведь так было всегда: вот пойдем мы на очередную долгую дневную прогулку, еще в средней школе, — и маршрут всегда выбирает она, а я не возражаю; для меня это всегда был верный маршрут, самый удачный, ведь на нем меня всегда на несколько шагов опережала Робин; и когда она бросится на траву рядом с озером Берд-Спринг, среди «скачущей Бет» и «кружев королевы Анны» [16], и вытянет руки и ноги, словно морская звезда, — сдавалась солнцу, так она это называла, — я тоже ложусь и вытягиваюсь, несмотря на грязь, из-за которой потом, понятно, мне дома еще влетит; так обнаружилось, что с ней я могу говорить и болтать день напролет, но так и не сказать всего, что могу сказать, тогда как с другими девочками — за обедом или в очереди к раковине в туалете — все разговоры о вселенной и ее содержимом исчерпывались в считаные минуты; Робин, ее улыбка и ее дух, мне представлялась аттракционом или радостно летящим через барьеры и высокие преграды вагончиком, когда от виражей, взлетов и пике дух захватывает так здорово; была у нас такая свирепая близость, уникальное ощущение, что все объяснения ни к чему, и ее отъезд в Оберлин не смог положить этому конец: потом она уже возвращалась редко, но мы переписывались, и подробности о ее постоянных переездах — в Адлеровский институт в Сиэтле, на археологические раскопки в Нью-Мексико и на Юкатане, в байкерский притон в Юджине и по всем бойфрендам — только укрепляли мое ощущение схожести, слияния; разница нашего опыта только подчеркивала тот факт, что на вещи мы смотрим в точности одинаково: Робин описывала ощущение от очистки песка столетий с маски бога дождя майя — а я просто-таки знала, что она чувствовала; она пишет, как застала своего парня в душе с другой женщиной — причем с гипоаллергенным мылом Робин, — а я просто-таки стояла рядом с ней, с комком в груди и горле; наши поверхностные различия только подтверждали нашу глубинную тождественность, показывали, что нашу солидарность не пошатнуть; ибо расстояния и различия между нами — ничто…