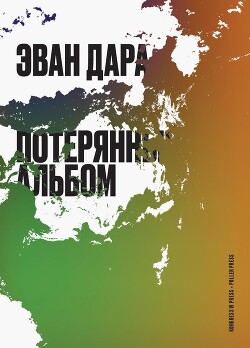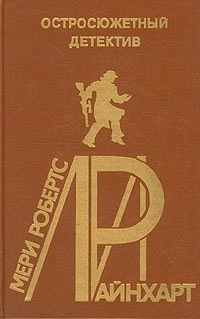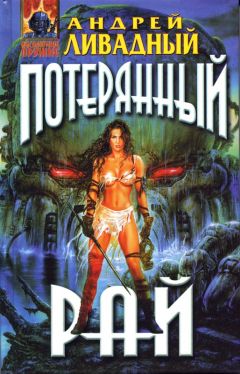…Такое у нас родство; и все же — возможно, иронично — среди этой безграничной открытости и легкости в общении как раз об этой близости мы никогда не говорили; много лет, с самой первой встречи в младшей средней школе, мне хотелось сказать Робин об этом, о своих чувствах — о том, что я чувствую с ней и по отношению к ней; но я всегда сдерживалась: всегда боялась, что это повлечет ненамеренные последствия — более того, я не сомневаюсь, что так и будет; боюсь, если облечь в слова то, что, уверена, мы обе понимаем до конца, в каком-то смысле изменится тональность нашей общности, а это высокая цена; ибо впредь, уверена, наше общение утратит некую нерефлексивную невинность или как минимум долю спонтанности; некоторые контакты только убьют то, что я больше всего ценю в отношениях с Робин — легкость и невыраженность, ненапускную легкомысленность; и уверена: эти свойства уже будет не вернуть: как мы приобщались к непринужденности, так теперь нас обуяет стеснительность; обратить это вспять не легче, чем вернуть девственность; мне тяжело думать, что для близости необходима какая-то доля отстраненности, пусть и только в качестве предохранительной меры, поскольку действительно кажется, будто связь, в глубинном смысле этого слова, приходит вместе с призраком отстранения; потому что войти с человеком в контакт — значит изменить этого человека — есть такая уверенность; это напоминает мне игру, о которой однажды после школы рассказывала Робин, когда мы шли по Анатта-роуд, уже явно двадцать лет назад: найти на странице слово, знакомое слово, а потом смотреть на него, просто не спускать глаз; и скоро, не больше чем через несколько секунд, покажется, будто в слове ошибка, или опечатка, или будто с ним что-то еще не так; и я так один раз пробовала с самым знакомым словом на свете: любить, первый глагол в букваре латыни, слово, известное всем; и, клянусь, не больше чем через пять секунд это уже было не то слово, что я знала всегда: оно казалось странным, кривым, и словно у него есть самые разные произношения, кроме того, которое лично я всегда считала правильным, которым я всегда пользовалась; так что был такой диссонанс…
…На самом деле я вспоминала об этой ситуации как раз на прошлой неделе, когда у меня в офисе произошло что-то удивительно похожее; был четверг, и мы готовились ко вселяющему ужас переезду на другой конец города — в прошлом месяце Генри выиграл право на региональную дистрибуцию для «Сан Микросистемс» и тем самым заодно решил свои годичные сомнения о расширении офисного пространства, — так что среди наших столов торчали коробки и большие баки для мусора; Джоан, Джесс, Мадлен и я доставали старые документы, записки, сообщения о телефонных звонках и тому подобное и либо выбрасывали в баки, либо складывали в коробки; и тут — было где-то полчетвертого — Джесс сходила за кофе, а когда вернулась, разговор вышел на мини-сериал, который закончился в предыдущий вечер:
— Боже, такой грустный, сказала Мадлен;
— Я в конце все глаза выплакала, сказала Джоан;
Я понимала, что они имели в виду: сериал действительно был неисправимой слезовыжималкой, очередная вещь в духе «болезнь месяца», которая почему-то за три вечера вдруг набрала немалую силу; в нем рассказывалось о драгоценной луноликой девочке по имени Хиллари, которая в шесть лет страдала от лейкемии; сюжет, преданный жанру, заглянул во все закоулки этого печального мира, посетил специальные больницы и детские клиники, показал другие сраженные горем семьи; пожалуй, предсказуемо, что я так прониклась, так что, когда завершилась последняя серия, а на экране высветился телефонный номер справочной для доноров костного мозга на 800, я просто-таки скомкала «Клинекс» и бросилась к телефонному столику за блокнотом и карандашом; заодно записала и речь закадрового голоса о том, что они будут признательны финансовой поддержке; более того, такие мысли посещали меня уже во время просмотра, начиная со второго вечера: я подумала, что хотела бы как-нибудь помочь этим несчастным людям, ведь доноры — это дали понять четко — в дефиците; вот чем я могу помочь, пришло мне в голову: вот способ поучаствовать там, где это действительно нужно и где я смогу на что-то повлиять; вот наконец то, что я могу сделать — и что с удовольствием сделаю; и я была очень довольна нужной информации в конце сериала и той ночью спала очень крепко; но когда на следующий день Джесс и Мэдди, собирая макулатуру со своих столов, начали его обсуждать и просто без умолку трепались о подробностях…
— А помнишь ту сцену на кухне…
— Какое у нее было лицо…
— Знаешь, думаю, я когда-нибудь хотела бы…
…так и чувствовалось, как мой пыл угасает; инстинкт испарился, и сама возможность участия стала неприятным бременем; это ни в коем случае не элитизм — конечно, я только рада, что благодаря сериалу, скорее всего, повысится число доноров, — но мой собственный позыв задвинулся куда-то на периферию; и под конец того дня с нескончаемым потоком слов мое участие в том, что я все еще признавала незаурядно достойным делом, стало откровенно немыслимым, хоть у меня и редкая группа крови…
…Более того, это бывает часто — когда я чувствую, будто слова, чужие слова, вытесняют мои и не оставляют места мне; не знаю почему, из-за какого механизма это происходит, но когда происходит — причем часто, — я обнаруживаю, что у меня вырабатывается потребность, даже искренняя тоска по словам, которые не станут неприятными и незнакомыми — то есть по моим собственным словам, уникально моим средь этого чужеродного прибоя; и все же, когда я ищу такие слова — свои слова, — кажется, что их нет: все мои слова даже при секундном рассмотрении кажутся чужеродными, плодом чужого труда; и потому я задаюсь вопросом, как вообще могу претендовать на то, что происходящее в моем сознании — мое, а не продукт жизнедеятельности какой-нибудь другости; часто у меня такое ощущение, что я не столько думаю, сколько подслушиваю собственные мысли, слушаю со стороны повествование, которое рассказывают друг другу другости, — что это другость думает меня; потому что, сказать по правде, такое ощущение, словно от меня не исходит ничего; даже мои незапланированные вскрики, самые прочувствованные восклицания предопределены другими: я замечаю, что именно в моменты сильнейшего волнения — когда я забираюсь в глубины своих реакций, в самую глубинную частность себя, — мои слова, которые вроде бы должны быть самыми личными и спонтанными, на самом деле самые деривативные — просто чистые банальные клише: О боже! Вы только посмотрите! Поверить не могу!; но где же тогда мои слова, спрашиваю я, мои собственные мысли?; иногда кажется, я проводник, а не содержание — перевалочная база, конденсатор, паттерн в волнах; или что я самое большее кладу кирпичики, сочленяю куски чужой твердости, чтобы построить свежее восприятие; все это похоже на подростковое мышление? — не знаю, но задаюсь вопросом, а откуда взялась мысль, будто все это похоже на подростковое мышление; в лучшем случае я вижу себя, этот антрацит, каким-то раздражителем, тем, вокруг чего в моем сознании нарастают течения культуры, как жемчужина: я не выражаюсь, а накапливаюсь; отрезанная от собственных истоков, погруженная в полученную историю, я чувствую себя лишь сбивающим с толку неизвестным параметром: я не знаю, почему никогда не ношу одни и те же туфли два дня подряд; я не знаю, почему говорю людям, что не люблю путешествовать; я не знаю, почему у меня в квартире всегда так мало еды; я не знаю, почему так нервничаю, когда приходится ждать в очереди; я не знаю, почему испытываю духовный подъем, когда вижу «Изгнание из рая» Мазаччо, тогда как микеланджеловская версия того же самого сюжета не вызывает никаких чувств; я не знаю, как меня занесло на мою работу; я не знаю, почему стараюсь демонстрировать видимость невозмутимого дружелюбия; я не знаю, почему даже я обращаю на себя внимание; но знаю, что эти тревоги и слова, составляющие эти тревоги, тоже как будто приобретены у других — всем скопом; даже мои слова для выражения моей же печали — лишь воплощение выражающей печаль другости, часть ее системы, этой культуры Мебиуса, и потому — очередное подтверждение ее господства; даже суть моего страдания предопределена словами других, и превыше всего мне хочется найти собственный способ страдать, уметь выражать себя в печали; значит, это и будет моим проектом, моим творческим начинанием: найти совершенно личный вид печали; это, возможно, мой самый значительный труд; и все же, когда я об этом говорю, не стоит употреблять даже «мой», «мое», «я», ибо это слишком смелое допущение; чтобы лучше передать ситуацию, было бы лучше, точнее, уж явно — умнее, пользоваться третьим лицом, «она» — или даже «он», мужской род, еще более обобщенная форма: на самом деле мне стоит говорить Он просыпается, Он плетется в ванную; Он морщится и моргает всем лицом в зеркало — да, так лучше; так определенно правильно: Он поворачивает ручку, чтобы смыть воду в синей чаше туалета «Стандарт»; Он промывает Его глаза, Он чистит Его зубы; Он выдавливает пену из баллончика и бреется бритвой из оранжевой пластмассы; Он шлепает кремом после бритья и чувствует, как кедровая едкость морозит Его нос; Он проводит «Бэном» под Его левой рукой, Его правой рукой; Он держит Его руки перед собой, пока не уляжется холодок в подмышках, пока Он не вытрется; из Его гардероба Он вынимает рубашку «Лорен» пастельно-голубого цвета, потом извлекает темно-синий костюм «Пол Смит» с серебряными тонкими полосками; Он срывает бумажную полоску от химчистки с Его рубашки, потом чувствует, как шероховатая жесткость Его рубашки охватывает Его плечи, Его трицепсы, Его живот, Его; Он застегивает и приглаживает, Он поправляет воротник, Он ощущает тяжесть Его костюма; костюм прямоуголится на Его плечах, зауживается на Его талии; Он садится и наклоняется к мягким носкам и решительным непоцарапанным туфлям; Он расчесывает Его слои волос к предназначенным падениям, которых они все равно ищут сами по себе; Он оглядывает Его черную пластмассовую расческу и переворачивает, потом широкими зубьями подравнивает Его брови; Он берет аккуратный маленький конверт с поверхности Его письменного стола и вспоминает об обещаниях внутри: Ростропович, Дворжак, Бетховен; Он собирает Его драгоценности, аналоговые часы, монеты, ключи, бумажник, затем запечатывает на Его персоне, стягивая узел Его галстука; Он поправляет Его кожу на шее до окончательной уютной комфортности, затем распахивает Его деревянную дверь, перемещаясь на более хрустящую плоскость Его паласа в коридоре…