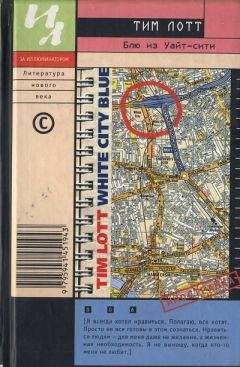— Не знаю, сэр.
И Тони, и директор злобно на него посмотрели. Я про себя умолял Колина встать на сторону Тони, сделать все, как надо. А он выглядел неуверенно, подозрительно. Он мог все испортить.
— Что значит, ты не знаешь? Это или было спланировано, или нет. Хотелось бы получить вразумительный ответ. Так ты знаешь что-нибудь об этом?
— Думаю, да, сэр.
— Что? Что ты знаешь?
Долгая пауза.
— Не знаю.
Это был максимум лжи, на которую Колин оказался способен. Но этого было недостаточно. Директор разочарованно вздохнул, потом махнул рукой, давая понять, что мы можем идти. Нас всех отпустили. Тони не обращал внимания на Колина, но посмотрел с ухмылкой на меня и сказал, обратившись ко мне (по-моему, в первый раз за все время):
— Блю, я думал, мамочка учила тебя никогда не врать.
— А это была не ложь, — пробормотал я, находясь все еще в возбужденном состоянии после того, что произошло. — Это была выдумка.
Тони задрал голову вверх и начал смеяться, громко и заливисто, так что учитель, шедший впереди по коридору, повернулся и шикнул на нас.
— Выдумка! Не ложь, а выдумка! Здорово, Блю. Фрэнсис-Выдумщик! А ты, оказывается, еще тот сукин сын, Фрэнки-Выдумщик!
И он улыбнулся мне своей ослепительной улыбкой. Он принял меня, одобрил, заметил. Смущенный, шокированный ругательством — в нашем доме никто не ругался, — но довольный, я улыбнулся в ответ. А потом Тони сорвался с места и побежал по коридору, напевая на ходу:
— Фрэнки-Выдумщик, Фрэнки-Выдумщик.
Так у меня появилось прозвище. Это было лучше, чем Меченый или Чудак. И тогда же я приобрел имидж, можно сказать, индивидуальность. Слово индивидуальность я узнал, уже учась в университете.
Там же я узнал, что другое значение этого слова в переводе с латыни означает маска. Это я хорошо понимаю. Но непонятно другое: почему, однажды надев, ее потом нельзя снять? Она… прилипает.
В воскресенье за обедом, когда мы разламывали грудную куриную косточку, мне досталась счастливая часть — та, что подлиннее, и я мог загадать желание. Впервые оно не касалось родимого пятна, от которого я мечтал избавиться. Вместо этого я загадал, чтобы Тони стал моим другом. Чтобы меня наконец признали своим. И, к моему изумлению и плохо скрываемой радости, желание начало сбываться. Тони, вожак, предводитель, стал со мной разговаривать.
То, что я не предал — напротив, поддержал его, — имело значение в школьном кодексе чести, в этой первой игре без правил, в которой я принял осознанное участие. На следующее утро, придя в класс, Тони улыбнулся мне, дружелюбно кивнув. Прежде он меня полностью игнорировал. Мне он не очень нравился, я его даже побаивался, но все равно был польщен. В первый раз я почувствовал, что могу что-то значить. Могу избегнуть участи невидимки, уготованной мне, как и Колину, потому, что я отличался от других, был застенчив и умен.
Потом какое-то время все шло, как всегда. Мы с Колином по-прежнему держались вместе: вместе возвращались домой, пиная по дороге теннисный мяч, заходили друг к другу в гости.
Все чаще Колин заходил ко мне, а не я к нему. С его отцом было что-то не так я это знал. Колин мне ничего не говорил, но как-то вечером я подслушал разговор родителей. Моя мама раз в месяц играла в бинго с матерью Колина — этим и исчерпывались ее выходы в свет, — к тому же Оливия Берден была младшей сводной сестрой маминого дяди, так сказать, нашей дальней родственницей. То есть получается, что мне она приходилась троюродной полутетей, а Колин — почти четвероюродным братом. И еще когда-то давно отец Колина работал вместе с моим отцом. Он уже давно перешел на посудную фабрику в Эктоне, но оттуда его уволили за пьянство.
Я знал, что он пьет. Иногда, приходя к Колину домой, я сталкивался с ним — от него неизменно разило спиртным, в основном бренди. С тех пор как отец Колина потерял работу, он стал пить еще больше. Не раз я видел, как он орет и ругается. Не могу даже представить, чтобы мой отец так себя вел. Я был застенчивым потому, что имел перед глазами пример отца, который воспитал меня по своему подобию. Колин был застенчивым (я понял это много лет спустя) потому, что отец затравил его — издевался над ним, угрожал ему, унижал, бил и его, и мать, потому, что он лишил их уверенности в себе, чувств и надежды. Иногда, когда мы переодевались на физкультуру, я замечал на руках и на теле Колина странные синяки. Он ничего об этом не говорил, а если я приставал с вопросами, отвечал, что упал, играя в футбол.
Синяков становилось все больше, и появлялись они все чаще, с тех пор как отец Колина потерял работу. Но Колин по-прежнему молчал. А когда я предлагал зайти к нему домой, он всегда находил объяснения, почему этого сделать нельзя. Зато у нас задерживался как можно дольше. Бывало даже, что моей маме приходилось вежливо просить его уйти, когда мы уже садились ужинать. Он всегда извинялся и тут же уходил. Я смотрел в окно, как Колин шел домой, медленно и неохотно, как будто невидимой нитью он был связан со мной и моим домом. В каком-то смысле так оно и было; но рано или поздно эта нить должна была порваться.
А в школе моя жизнь начала потихоньку меняться. Я окреп и стал хорошо играть в футбол и крикет, что способствовало моей популярности. Колина по-прежнему не брали ни в одну команду. Тони после истории с Койнанжем стал обращать на меня внимание, здоровался и разговаривал со мной каждый день. Но он был так же пугающе холоден по отношению к Колину, и это настораживало больше, чем прежнее равнодушие.
Его интерес ко мне изменил мою жизнь к лучшему. Другие ребята, раньше не обращавшие на меня внимания, заметили мое существование. Тони уже тогда был престижным другом. Теперь, если затевалась какая-нибудь проказа, я оказывался в числе его соратников. Если рассказывали новый анекдот (что-нибудь жестокое об эфиопах или инвалидах, которых называли недоумками), Тони звал меня послушать и посмеяться, что я неизменно и делал, независимо от того, смешной был анекдот или нет. Еще один ничего не значащий обман, не более того.
Все это сильно повлияло на меня. Казалось, что я будто вырос, стал с меньшей боязнью относиться к внешнему миру. Изменились походка, манера держаться. А Колин, напротив, словно скукожился. Идя в компании Тони и его дружков, я видел, как он маячит в конце коридора. Ждет, когда я отделюсь от компании и присоединюсь к нему и мы будем болтать и играть, как прежде. Но в последнее время он начал меня раздражать. Он не был навязчивым, нет, просто мне становилось все очевидней, что он слабак, а это почти одно и то же.
Между тем слухи об отце Колина начали доходить до школы. Он постоянно ввязывался в драки в местном пабе, да к тому же его, грязного и небритого, не раз видели сидящим в парке около школы с бутылкой пива или сидра в руках. Колин делал вид, что ничего не происходит, но ребята начали шептаться у него за спиной, бросая в его сторону многозначительные взгляды.
Мы с Тони, хотя еще не стали приятелями, но были к этому очень близки. На футбольном поле из нас получилась отличная связка: он нападал по центру, а я слева в нужный момент делал ему крученые, длинные, с расчетом на его рост передачи. Пасы всегда удавались мне; я умудрялся отправить мяч прямо на его подставленную голову. Это приводило Тони в восторг: иногда на поле, забив очередной гол, он обнимал меня на глазах у всех. Иногда мы выходили вместе из школы, покуривая сигареты, которые он доставал, а Колин шел домой один. Мне нечего сказать в свое оправдание, но тогда это меня, похоже, не беспокоило. Признание — странная вещь, оно появляется незваным и при первом же осознанном усилии удержать его исчезает.
Сначала где-то раз в неделю, но со временем все чаще и чаще я стал избегать Колина. При всей жестокости Тони с ним было весело, и он имел реальную власть и друзей. Он решал, кто будет включен в круг избранных, и если тебя не включали в их число, ты был никем. А я понял, что больше не хочу быть никем. Я хотел, чтобы меня любили. Хотел, чтобы со мной считались.
Тогда я не знал, что за все надо платить. Я узнал это в один из дней накануне летнего семестра. Мне было тринадцать, и я начинал осматриваться вокруг, потихоньку выбираясь из своей скорлупы, тогда как Колин все глубже забирался в свою. Несмотря ни на что, я почему-то не сомневался в незыблемости моей дружбы с Колином: я вообще верю, что те, кого я люблю, будут моими друзьями всегда, пока жизнь не доказывает мне обратное, а она делает это с завидным постоянством.
Все началось еще до того, как я вошел в класс. Мальчишки собрались в углу, слева от доски. Слышался смех, но не безобидный, не тот, что следует за удачной шуткой или хорошим анекдотом. Этот резал по живому, от него исходила угроза.
В классе было человек пятнадцать. В том числе и Нодж, он стоял поодаль. Как и я, Нодж принадлежал к окружению Тони, но держался обособленно, так что мы мало общались друг с другом. Тем не менее я знал, что он был из числа немногих, кого Тони уважал, потому что уже тогда Нодж отличался упорством и непреклонностью.