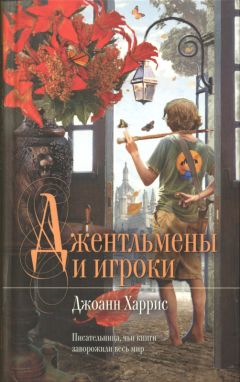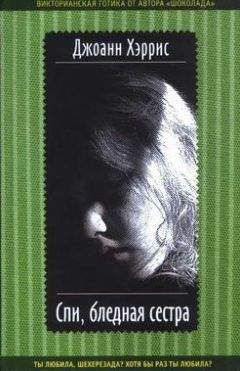Звание старшего учителя дает массу преимуществ. Например, заслужив репутацию приверженца строгой дисциплины, напоминать об этом приходится не часто. Повсюду слышится: «Не связывайся с Честли» — и спокойная жизнь обеспечена. Но не сегодня. Такое изредка случается, и в любой другой день я бы так не сердился. Но тут мне досталась большая группа из тридцати пяти человек — третий класс нижней ступени, и среди них ни одного, изучающего латынь. Они знали меня только понаслышке, и вряд ли последняя статья в местной газете была мне на пользу.
Я опоздал на десять минут, и класс уже бушевал. Никакого задания им не дали, и, когда я вошел, ожидая, что мальчишки притихнут и встанут, они просто взглянули на меня и продолжили заниматься своими делами. Карты, болтовня, громкая свара с опрокидыванием стульев на задних партах и вонь жевательной резинки.
Такое поведение не должно меня злить. Хороший учитель знает, что есть притворное негодование и настоящее, и притворство здесь — честная игра, вид учительского оружия, та пушка, на которую он берет учеников; но истинное негодование надо прятать любой ценой, чтобы не позволить им, умелым манипуляторам, выиграть очко.
Но я устал. День начался плохо, мальчики меня не знали, и я все еще находился под гнетом вчерашнего происшествия в саду. Эти визгливые мальчишеские голоса: «Ни черта он не может, старый хрыч!» — звучали слишком знакомо и настойчиво, чтобы можно было от них отмахнуться. Один мальчик, взглянув на меня, повернулся к соседу. Мне послышалось: «Вот вам на орехи, сэр!» — и взрыв мерзкого хохота.
И вот я — как новичок, как практикант — поддался на древний хрестоматийный трюк. Я сорвался.
— Молчать, джентльмены!
Обычно это действовало. Но сейчас — нет. Мальчики на задних партах открыто потешались над моей потрепанной мантией, которую я забыл снять после дежурства во время утреннего перерыва. «Вот вам на орехи, сэр!» — услышал я (или мне показалось), и шум только усилился.
— Я сказал, молчать! — рыкнул я.
В обычных обстоятельствах звук моего голоса пробирает, но я забыл о рекомендациях Бивенса ничего не принимать близко к сердцу. Невидимый палец ткнул меня в грудину посреди рыка. Мальчишки на галерке хихикали, и у меня мелькнула шальная мысль, что именно они приходили вчера вечером. «Думаешь, поймаешь меня, жирный ублюдок?»
Да, в таких ситуациях без жертв не обходится. На этот раз я оставил восьмерых на обеденный перерыв, что, конечно, перебор, но у каждого учителя свои дисциплинарные меры, и нечего было Страннингу вмешиваться. Однако он вмешался: проходя мимо класса в самое неподходящее время, он услышал мой голос и посмотрел через стекло как раз в тот миг, когда я дернул одного из веселящихся юнцов за рукав блейзера.
— Мистер Честли!
Ну да, в наше время попробуй тронуть ученика хоть пальцем.
Наступила тишина. Рукав у мальчика оказался порван под мышкой.
— Вы видели, сэр? Он ударил меня!
Все знали, что это неправда. Даже Страннинг знал, хотя и не подавал виду. Меня снова ткнул невидимый палец. Мальчик — его звали Пули — выставил свой блейзер на всеобщее обозрение.
— Он был совсем новый!
Снова неправда, это каждому было видно. На ткани блестели протертые места, а рукав был коротковат. Прошлогодний блейзер, который уже пора менять. Но все равно я перегнул палку, и сейчас это было очевидно.
— Расскажите мистеру Страннингу, как все произошло, — предложил я, повернувшись к притихшему классу.
Второй зам смотрел на меня взглядом рептилии.
— А когда вы закончите с мистером Пули, — добавил я, — пришлите его, пожалуйста, обратно, чтобы я по всей форме оставил его после уроков.
Страннингу ничего не оставалось, кроме как уйти, прихватив Пули с собой. Вряд ли ему понравилось, что его выставил коллега, но нечего было вмешиваться, верно? И все же я чувствовал, что он этого так не оставит. Слишком хорошая возможность, к тому же я вспомнил (хотя и поздновато), что юный Пули — старший сын доктора Б.-Д. Пули, председателя Попечительского совета, чье имя я совсем недавно видел на одном официальном уведомлении.
Что ж, все это выбило меня из колеи, я зашел не в ту комнату, где должен был проводить аттестацию Тишенса, а в результате опоздал к нему на двадцать минут. Все посмотрели на меня, кроме Тишенса, бледное лицо которого одеревенело от возмущения.
Я сел сзади, кто-то подвинул мне стул, на котором лежала розовая ведомость. Я просмотрел этот листок. Обычные графы: планирование работы, подача материала, стимулирование, энтузиазм, владение дисциплиной. Оценки по пятибалльной шкале плюс место для комментария — все как в гостиничной анкете.
Я размышлял, какое мнение от меня ожидается, класс вел себя тихо, кроме двоих на задней парте, которые пихались локтями, Тишенс объяснял уверенно и доходчиво, компьютеры вели себя хорошо, на экране рождались головокружительные картинки, которые, очевидно, и являлись объектом изучения. В целом вполне удовлетворительно, решил я, ободряюще улыбнулся злополучному Тишенсу и ушел пораньше в надежде быстренько выпить чашку чая до начала следующего урока; розовую бумажку я сунул в ячейку второго зама.
И тут я заметил что-то на полу у своих ног. Это была маленькая записная книжка в красном переплете. Открыв ее, я увидел, что она наполовину исписана тонким почерком; на форзаце я прочел имя: «К. КИН».
Ах, Кин. Я оглядел комнату, однако нового преподавателя английского там не оказалось. А потому я положил книжку в карман, чтобы потом вернуть ее владельцу. И зря, как выяснилось впоследствии. Но вы же знаете, что говорится о подслушивании у двери.
У всех учителей есть такое — записи об учениках, списки и дежурства, претензии, большие и малые. О каждом коллеге по записной книжке можно сказать почти столько же, сколько по кружке. У Грахфогеля — аккуратный, с разноцветными закладками призыв к порядку; у Китти — деловой карманный ежедневник; у Дивайна — солидный черный талмуд, почти пустой. Скунс пишет в зеленой бухгалтерской книге аж с 1961 года; у Нации — блокноты благотворительного общества «Христианская помощь»; Грушинг пользуется тем, что подвернется под руку, самоклейками и старыми конвертами.
Я не смог удержаться и заглянул в записную книжку молодого Кина, а когда понял, что делать этого не следовало, я уже попался на удочку.
Конечно, я знал, что Кин писатель. У него и вид такой — благодушного случайного наблюдателя, который любуется происходящим, потому что знает, что долго здесь не задержится. Но я не догадывался, сколько всего он уже видел: ссоры, соперничество, маленькие секреты жизни общей преподавательской. Целые страницы, исписанные очень мелким, почти нечитаемым почерком; персонажи, сценки, высказывания, сплетни, прошлое, новости.
Я пробегал по страницам, напрягая глаза, чтобы разобрать мельчайшие строчки. Здесь упоминалась и «Дуббсова эпопея», и арахис, и любимчики. Было кое-что из истории Школы: я видел имена Страза, Пиритса и Митчелла вместе с газетной вырезкой о тех печальных событиях многолетней давности. Рядом — ксерокс фрагмента фотографии Школы, цветной снимок спортивного праздника в другой школе: мальчики и девочки, сидящие на траве, скрестив ноги, и скверный портрет Джона Страза, похожего на преступника, как большинство мужчин на первой полосе газет.
Несколько страниц отданы веселым зарисовкам, по большей части карикатурам. Главный, суровый и непоколебимый, Дон-Кихот в пару к Слоуну-Санчо. Боб Страннинг в виде получеловеческого гибрида, подключенного к своему компьютеру. Мой Андертон-Пуллит в защитных очках и летном шлеме; ученическая влюбленность Коньмана в нового преподавателя изображена самым безжалостным образом; мисс Дерзи предстала в образе очкастой сельской учительницы в чулках, а рядом — рычащий Скунс-ротвейлер. Даже я там есть — горбатый, весь в черном, свисаю с Колокольной башни с пухленькой Китти-Эсмеральдой под мышкой.
Это вызвало у меня улыбку и в то же время некоторую неловкость. Что тут говорить, я всегда питал слабость к Китти Чаймилк. Все в рамках приличия, как вы понимаете, но я и представить себе не мог, что это так чертовски заметно. Интересно, замечает ли это Китти.
Черт бы его побрал, подумал я. Я ведь с самого начала знал, что Кин молодой да ранний. И все-таки он мне нравился. Да и сейчас нравится, по правде говоря.
Р. Честли. Латынь. Преданный выпускник «Сент-Освальда». За шестьдесят, курит, тучен, сам стрижется. Носит одну и ту же коричневую твидовую куртку с заплатами на локтях (ну, это ты врешь, остряк-самоучка: в День собраний и на похороны я надеваю синий костюм); из увлечений — дразнить начальство и заигрывать с учительницей французского. Мальчики странным образом привязаны к нему (а Колин Коньман — забыл?); камень на шее Б. Страннинга. Безвреден.