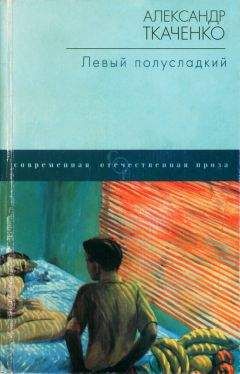Я отвалился от него и побрел к Шуре, понимая, что мне придется это сделать, ибо она действительно могла в целях безопасности засунуть билет куда угодно. Я привел Шуру в женский туалет, подвел двух сострадавших русских женщин и приказал ей: «Раздевайся». Отвернулся, и она была обыскана соотечественницами, но проклятый билет не нашелся. Посадка тем временем закончилась. Что делать? Подвел Шуру к стойке регистрации и сказал по-английски американцам о проблемах с билетом. Они ответили весело на ломаном русском: «Она потеряла билет? О'кей, мы ее отправим, пусть доплатит пятьсот долларов — и нет проблем». Шура, услышав про сумму, качнулась и повалилась. Кошмар! Спасибо, Франк, за такой несказанный подарок.
И вдруг меня осенило: если известна фамилия Шуры, то она есть в компьютере и, следовательно, можно выбить дубликат. Американцы рассмеялись, видимо обрадовавшись моей сообразительности, взглянули в Шурин паспорт — через секунду мы имели дубликат билета. Шура была восстановлена в правах пассажира, напоена валидолом, корвалолом — шубный домик двинулся в сторону неба.
Когда подлетали к Европе, я прогуливался по «Боингу». На одном из первых сидений я увидел Шуру, обложенную сеточками и пакетиками. Она сияла почище кремлевских звезд: «Саша, ты спас меня, спасибо. Но я нашла билет!» «Да? И где же он был?» — поинтересовался я. «Он был здесь, в моей сберегательной книжке, они так похожи по цвету…»
Кто может мне ответить на вопрос: зачем русская женщина Шура, летавшая к родственникам в штат Юта из Мурманска, брала с собой сберегательную книжку?
Историй о приключениях в Америке соотечественников, подобных этой, я могу рассказать не один десяток. И каждая закончится одним и тем же вопросом; ну почему мы такие?! Почему, не стесняясь окружающих, вываливаем наружу все наше хамство, нашу жадность, наше бескультурье, нашу лапотную простоту? Русского человека за рубежом чаще всего жалко, но и горько от его поведения. Я не люблю слово «совок», но именно им хочется обозначить своих сограждан, когда они попадают в ситуации, в которых цивилизованный человек никогда не окажется.
Не выветрились из памяти времена, когда русские, точнее, советские граждане за рубежом ходили не иначе как парами, а чаще — группами, чтобы, во-первых, как их запугивали перед поездкой, «не нарваться на провокации», а во-вторых, не поддаться тлетворному влиянию. Инструкция «Интуриста» советовала: «Не делайте скороспелых выводов».
Тогда мы для свободного мира представали в образе агрессивных, напуганных, подозрительных чудищ. «Империя зла» — это не случайный образ. После 1985 года страна наша постепенно стала открываться, мы стали больше ездить по миру и даже научились там улыбаться и не бояться каждого встречного. Принимали нас с распростертыми объятиями, мы были для западников людьми, вырвавшимися из железных лап тоталитаризма, которых нужно пожалеть, обогреть и накормить, которым нужно сочувствовать.
Но потом постепенно отношение к нам менялось, и от радости встреч ничего не осталось. И сегодня вновь настороженное отношение к нам. В нас опять видят нечто путающее, непонятное, непредсказуемое. (Я не говорю о том, как работает на имидж русских «русская мафия», это тема особого разговора.) И виноваты в этом, прежде всего, мы сами. Не наши правители, не наши дипломаты и даже не Жириновский с Лебедем и Грачевым, а каждый из нас, кто демонстрирует миру, каковы мы на самом деле.
«Утром проснулся и смотрю из окна вагона. Дождик идет, на пашне слякоть, чахлые кусты, и по полю трусит на кляче, с ружьем за плечами, одинокий стражник. Я ослепительно почувствовал, где я: это она — несчастная моя Россия, заплеванная чиновниками, грязная, забитая, слюнявая, всемирное посмешище. Здравствуй, матушка!» Эти строки Александра Блока вспомнились, когда я ехал из Шереметьева в Москву. Здравствуй, матушка! Здесь Шуре хорошо.
Левый крайний Жора Цыбуревкин всегда выбегал на поле первым под одобрительные крики фанатов. Маленький бутузик такой, стриженный под ежик. Пока он разминался со всеми, то несколько раз сотрясал штанги ворот ударами с левой, благо на разминке никто не мешает. «Штанга опасней, чем гол, Жора, — кричали фаны. — Дави их, гадов», — и он, самодовольно поглядывая на трибуны, улыбался. Начинался матч, и он начинал давить, играя нехитро. Шел с мячом прямо на защитника, стараясь пропереть его с ходу. Но защитник быстро разгадывал его: Жора не обладал хорошим рывком, он просто пер, и все. Поэтому останавливали его очень просто: в момент, когда Жора отпускал мяч, защитник, не нарушая правил, вместе с мячом отправлял его на гаревую дорожку, окружавшую тогда футбольное поле. Стадион дико возмущался. Жора тоже вставал, отряхиваясь от гаревой пыли и потирая содранную до крови кожу бедер, звал врача со скамейки. Тот выбегал с бинтами и зеленкой, и вот Жора опять под аплодисменты фанов возвращался на свое место и, если мяч снова попадал к нему, таким же образом шел на защитника. Иногда он проскакивал, и это оправдывало его — тренеры в перерыве и на разборах игры ставили его в пример: «Все опустили руки, не двигаетесь, один Георгий прет, как танк…» Жора тихо улыбался, ребята относились к нему иронично, но без злобы: «Жора, да ты хоть в стенку обыграйся, ведь убьют же». Но он не изменял своему стилю, да и не мог этого сделать, ибо не обладал ничем, кроме умения переть, как говорят, рогом на буфет. Я даже не знаю, был ли он футболистом, но бойцом или борцом — это точно. Почти после каждой игры он выходил с поля под одобрительный ор фанатов то с перебинтованной головой, то с подвязанной рукой, с обязательной зеленкой на лице и на ладонях. Прихрамывая, он садился в автобус и на заднем сиденье тайком затягивался «Беломорканалом» с наполовину оторванной белой пустышкой. Курил он уникально, ибо, когда кто-то из тренеров оглядывался назад, он мгновенно делал немыслимый трюк — беломорина исчезала у него во рту, приклеенная к языку, и он улыбался как ни в чем не бывало, и, как только тренеры устремляли свои головы вперед на дорогу, Жора таким же движением языка доставал папироску изо рта и, подхватывая губами, продолжал потихоньку пыжить. Он даже в море так плавал, не выпуская из зубов беломорину, и когда нырял, то проглатывал ее. К середине первого круга всем стало ясно, что от бойцовских качеств мало толку, и даже на поле полузащитники старались не давать ему мяч, только в крайнем случае. Однако пару штрафных у ворот противника его одержимость зарабатывала частенько, и после удачно пробитых мячей, особенно если забивался гол, Жора возвращался к центру поля с высоко поднятой головой, как соавтор. Так оно, вероятно, и было, но дело не в этом. КПД его был мал, и он все чаще попадал на скамейку запасных, и тренеры за это получали гневные отклики болельщиков и требования выпустить Жору на поле. Жора был покладистым и никогда не обижался. Он был настоящим фанатом футбола, таким же, как и большинство сидящих на трибуне, только не допущенных в священные конюшни раздевалок. Даже его лучший друг по команде, левый защитник, игравший с ним на одной линии левого края поля, отобрав мяч, теперь сам шел в атаку по Жориному коронному месту, и тот, если был на поле, не знал, что делать, — защитник шел прям на него с мячом и орал: «Уйди, уйди». Но куда — в центре все забито, и Жора отвечал ему тоже на крике: «Куда, на беговую дорожку?» Однажды, когда ситуация повторилась и защитничек потащил мяч прямо на Жору, он заорал: «Да отдай же мне в ноги или за спину». Юра, так звали левого защитника, метров с пятнадцати отдал ему пас, но не так, как он просил, а ударом, и попал прямо ему в грудь, забив дыхание. Жора, едва отдышавшись, небрежно бросил ему: «Спасибо, Юрчик, отличный пас, только помягче чуть-чуть»… Жора жил один, без жены, и после игры исчезал на сутки или полтора бесследно. К алкоголю относился вроде спокойно, вот только покуривал, но пока все было в порядке и всем нравились его битвы с мячом, и эта мелочь прощалась. И тренеры ставили его фанатизм в пример всем: «Вот если бы ты, распиздяй, относился так к футболу, как Цыбуревкин, то давно играл бы в сборной, — говорили они звездным игрочкам, вальяжным и с ленцой, втайне любя их: — Ты посмотри, бутсы нечищеные, грязь еще с прошлой игры между шипами… Вон посмотри на Жору». Для всех была загадкой Жоркина жизнь вне футбола, поскольку он никогда не был замечен в пьянстве ни с болельщиками, ни с футболерами, даже с девочками его не встречали. Да потом и вообще перестали интересоваться. Наконец наш доктор раскрыл его тайну. Однажды Жора пропал не на сутки, а на двое, и все заволновались. Доктор поднялся на пятый этаж гостиницы, где жил в одиночестве Жора, и долго стучался в его комнату. Пришлось открывать запасным ключом. Когда отворилась дверь, то он увидел спящего на коленях в обнимку со стулом Жору и несколько пустых бутылок из-под водки. А на постели лежала тоже не вязавшая лыка самая сбомжевавшаяся тварь с привокзального пятачка. Жора оказался тихарем, был запойным и с комплексами, поэтому и водил к себе только таких баб, которым деваться было некуда. Но никто этого не просек. Так он, вероятно, заливал свои пожары славы и геройства стадионов и моменты падения от понимания несоответствия его фанатизма в этой великой игре и требованиями действительности. В конце сезона он был отчислен из «Таврии» и бесследно исчез, смывшись в свой родной не то Могилев, не то Гомель…