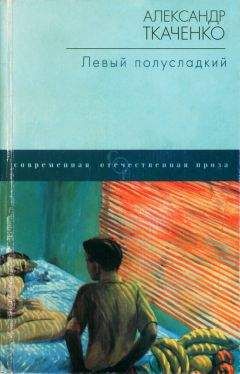«Где Герберт живет?» — наивно спросил я. Он оторвался от письма и сказал: «Этого никто не знает, у него по всей Кубе убежищ десятка четыре, и каждый раз он ночует по новому адресу…» Прочитав письмо, он мрачно заметил: «Я довольно часто общаюсь по экономическим вопросам с его братом, но если я вручу это письмо ему, не исключено, что он расстреляет меня на месте». Холодный пот, обычный в таких ситуациях, не замедлил появиться у него на челе. «Но сделайте это заявление публично, на конференции деятелей культуры и постарайтесь, чтобы его у вас приняли из рук в руки. Я знаю, как работают их спецслужбы…»
Куба — это Куба, рай земной, хотя коммунисты умудрились лишить его даже бананов и кокосовых орехов. Это все равно что Россию оставить без снега. Я начал читать свои лекции в небольшом помещении человек на сто, напоминавшем обычную студенческую аудиторию. Лекции проходили остро. Спорили о роли Ленина в истории. Вечером я прогулялся по Гаване и увидел несколько больших и маленьких изваяний Ильича. Все они были похожи на кубинских аборигенов. На следующий день в такой же аудитории я продолжил в такой же острой манере мои выступления. Вопросы были о непонимании идей великого Ленина, о прогрессивности социализма, о ведущей роли пролетариата. Но на третий день я заметил, что вопросы стали повторяться — опять только о Ленине. Сомнения закрались в мою душу. На четвертом выступлении я все понял — лекции я читал одним и тем же людям, вероятно, какому-то небольшому эшелону спецслужб, но никак не писателей.
После последней дискуссии мы вышли с переводчицей во двор, и я услышал приятный гул и волнующий звон стаканов из-за стены. Я спросил переводчицу: «А что там происходит?» — «Это писатели обсуждают проблемы соцреализма за бутылкой рома и чашкой кофе. По пятницам, по указу Фиделя, ром им наливают за символическую цену». — «А кому же читал лекции я?» — с иронией поинтересовался я. «Совсем зеленым писателям, нашему будущему», — ответила она, скроив ехидную мордочку. Я вошел в гудящее открытое кафе под роскошными каштанами и начал пить со всеми подряд. При знакомстве я услышал такие откровения, что челюсть моя отвисла… «Старик, — сказали мне, — а ты что ж думал, нас уже нет? Все есть у нас, все есть — и ром, и настоящая литература, и совесть…» Ситуация вообще известная по нашей действительности, когда в годы крутого застоя можно было войти в ресторан Дома литераторов и увидеть Юрия Трифонова и Булата Окуджаву, Георгия Семенова и Николая Глазкова и немногих других и даже не удивиться этому.
Была еще одна вещь, поразившая меня, о природе которой я спросил, и мне ее объяснили. Я заметил, что все прокастровские организации и все антикастровские сообщества носили имя одного и того же человека — Хосе Марти. Он был первым человеком на Кубе, кто еще в прошлом веке возглавил национально-освободительную борьбу за независимость. И революция, после которой Фидель Кастро, Че Гевара и его друзья вошли в значительно опустевшую столицу, была национально-освободительной. Но говорят, что заокеанские коммунисты соблазнили Кубу на социалистический путь.
Люди на Кубе мягкие, добрые, несмотря на отсутствие даже картофеля в лавках, несмотря на то, что все советские автомобили, завезенные на рынок сбыта, не красились уже лет пятнадцать, несмотря на обшарпанность гаванских архитектурных памятников. На пляже Варадеро я лежал один, вокруг на два километра — никого. И вдруг я увидел, как на меня издалека мчится молодой кубинец. Я насторожился. Но он прибежал, лег, скорее, подлег ко мне, выпалил, задыхаясь на английском: «Нам нужны перемены, такие же, как и у вас в стране». И тут же исчез на такой же скорости.
А я лежал и думал, как мне все-таки вручить письмо-протест, чтобы оно достигло адресата. На одной из вечеринок с писателями я решил расколоться о моей миссии переводчице русской литературы на испанский. Как мне сказали, она была близка к кругам самого. Конечно, я рисковал, но расчет оказался точен. Я сказал ей, что если у меня письмо не примут и не освободят Герберта Хереца, то русская интеллигенция неправильно поймет, а в новые времена — это отказ в материальной помощи Кубе со стороны России. Я понимал, что она и дальше намерена переводить русскую литературу и не заинтересована в ссоре с нашими писателями. Тем не менее в день большой конференции всех деятелей культуры Кубы, председателем которой был Абель Приэте, я очень волновался, но переводчица многозначительно подмигнула мне, мол, все будет в порядке. И все-таки я боялся, что акция сорвется, и мне просто не предоставят слова. Мое выступление было запланировано, я долго томился, когда кончатся скучные для меня разговоры о месте кубинской культуры в ревпроцессе. И еще: мне нужно было документально зафиксировать, что я исполнил свой долг — передал письмо-протест. Решил записать все на диктофон. Ведь если я приеду домой и просто скажу, что передал письмо с заявлением, то кто мне поверит? Особенно если Герберта Хереца не освободят. Нет, нужна пленка, думал я, но записывать из-под стола неприлично.
Когда мне дали слово, я спросил разрешения поставить диктофон на стол для записи. Мне разрешили. Затем я сказал, что перед моим сообщением о современной русской литературе я хочу сделать заявление. Мне разрешили. Я читал заявление на русском, переводили на испанский, мой диктофончик все это записывал. Затем я попросил текст заявления на испанском языке передать Фиделю Кастро — у меня был и такой экземпляр. О, эти длинные секунды, когда моя рука протягивала письмо моему визави Абелю Приэте! Его правая рука была неподвижна, меня охватила паника. Вдруг он достал из кармана левую и с улыбкой взял у меня письмо, заверив, что он передаст письмо президенту… Значит, все получилось? Невероятно! Теперь главное — освободили бы писателя.
В Москве прослушали запись на пленке — и не поверили, что я совершил. Но, правда, через два месяца, когда на международной Ассамблее ПЕН-клуба было объявлено, что в результате моего протеста от имени Русского ПЕН-центра писатель Герберт Херец был освобожден, поверили все. И сам я поверил, что писателя-диссидента освободили благодаря мне. Правда, потом двух других посадили, но именно этого — освободили. Вот так-то…
Когда человек в цивилизованной стране попадает в тюрьму за совершенное преступление и суд квалифицированно доказал это, то наказанием для него является лишение свободы, лишение самого естественного права от рождения. Но не больше, ибо само по себе лишение свободы — это самое тяжелое наказание, во всем остальном он не ущемлен. Он может звонить из тюрьмы, заниматься своим любимым делом, питаться так, как подобает человеку, а не скотине. Я понял это, когда побывал с моим поэтическим другом Александром Еременко несколько лет назад в одной из тюрем Сан-Франциско.
Саша создал в свое время замечательную коллекцию художественных работ заключенных в тюрьмах России. Надо сказать, что выставка произвела фурор в Америке: в невероятных условиях запрета творить в камерах люди делали невероятные вещи, к примеру, пара кроссовок из склеенного слюной хлеба и раскрашенных под настоящие величиной в двенадцать миллиметров.
Нас накормили обедом вместе со служащими тюрьмы. Мы спросили о том, как питаются заключенные, и нам удивленно ответили: «Мы едим из одного котла». В котле были и оливки, и клубника, и хорошие куски мяса, конечно же кофе, правда, регулярно тот, который пьют почти все американцы.
Вдруг нас спросили: «А хотите увидеться с Анжелой Дэвис?..» — «Что? — переглянулись мы. — Она что, до сих пор сидит?..» — «Да нет, преподает философию заключенным девушкам для общего развития…» И я вспомнил шестидесятые, когда весь совок вопил: «Свободу Анжеле Дэвис!» Ее, тогда молодую социалистку, прижали за выступления и подержали немного в тюрьме. И я вопил вместе со всеми. Она была для меня тогда символом — символом свободы в тюрьме Америки, хотя на самом деле я был заключенным в просторах шестой части света, пространстве такой величины, что и в голову не приходило, что это просто гигантская тюрьма. Вскоре история с Анжелой Дэвис забылась, поскольку ее освободили, и не после лесоповалов и химии, а из примерно такой же тюрьмы, как та, в которой я встретил ее через почти тридцать лет. Но она так и осталась для меня не человеком, а символом, слухом, звоном…
И вот она живая стоит передо мной, здоровая, крепкая пятидесятилетняя негритянка с копной волос, похожей на муравьиный домик, чуть улыбается. И рядом с ней появляется ее ассистентка, точно такая же, и нежно берет ее за руку и говорит нам: «Мы будем рады видеть вас на лекции в Беркли в восемнадцать часов вечера, приходите». Я так и сказал Анжеле: «Вы для меня символ, я думал, что вас нет, что это все было не с вами». «Нет, это я — и я не символ, не миф, пожмите мне руку… Жду вас вечером, поговорим после лекции».