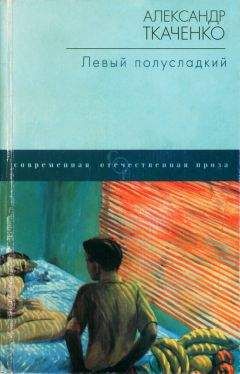И вот она живая стоит передо мной, здоровая, крепкая пятидесятилетняя негритянка с копной волос, похожей на муравьиный домик, чуть улыбается. И рядом с ней появляется ее ассистентка, точно такая же, и нежно берет ее за руку и говорит нам: «Мы будем рады видеть вас на лекции в Беркли в восемнадцать часов вечера, приходите». Я так и сказал Анжеле: «Вы для меня символ, я думал, что вас нет, что это все было не с вами». «Нет, это я — и я не символ, не миф, пожмите мне руку… Жду вас вечером, поговорим после лекции».
Мы неслись в такси через Голден Бридж с Еремой, как придурки, в университет к шести и затаенно думали, о чем она будет читать лекцию, интересно, доктор философских наук, судьба левачки в Америке, она для нас была где-то в районе поэзии обожаемых битников, ее протест был почти протестом поэта, хотя на самом деле все было иначе. Как оказалось, она была очарована не социализмом западного толка, а простым, обыкновенным марксизмом-ленинизмом, жертвами которого стали все мы, прошедшие на практике, а не теоретически. Хотя сожаления по поводу загубленной прекрасной идеи слышались частенько, в частности, от ныне покойного выдающегося поэта Алена Гинзберга. «А я ведь в свое время чуть не был выслан из Америки за поддержку идей Фиделя и Че», — говорил он мне это в его прекрасной летней школе в 1991 году в Колорадо, куда он пригласил меня для выступления. Помню, что я горько ответил ему: «Какое счастье, что у вас эта идея не прошла, ибо летнюю поэтическую школу вы бы, Ален, сейчас проводили бы где-нибудь под Магаданом американского образца…»
Меня удивило то, что на лекции Анжелы Дэвис было полно людей — человек триста. Я услышал заурядную лекцию о равенстве, подобную сотням, которые слышал в нашей стране всюду, где я ни учился, только на английском. Для людей это было как усыпляющий сон. Анжела-профессор легко манипулировала понятиями, на которых мы выросли, вернее, затормозились. И людям нравилась ложь, прекрасная ложь о них самих — разных нищих и среднебогатых, больных и здоровых, счастливых и убитых горем. Я сидел и думал: почему они сидят здесь, а не в церкви? Вероятно, потому, что от нее исходила уверенность человека, жившего и построившего себя в сильном капиталистическом обществе и имевшем от него все, даже возможность говорить о чуждой этому обществу идеологии как об идеальной и не быть за это наказанной… В конце концов нам с Еремой это наскучило, и мы, ударив друг друга по коленям, попросту смылись с лекции, которая, как предполагалось, нам будет ух как интересна. Так умирают мифы, увы, не в тюрьмах и концлагерях, наподобие наших великих диссидентов, а в кожаных креслах профессоров философии всеядного Западного побережья.
Вообще человек свободен настолько, насколько он свободен внутри. Это и определяет его отношения с окружающим пространством. Там же в Сан-Франциско я встретил одного уже немолодого эмигранта из России, не изучающего английский. Я спросил его, зачем ему это. Он ответил: «Дело принципа. Я жду, когда они со мной заговорят по-русски». Люди остаются сами собой, ситуации вокруг них меняются, но противоборствующие идеи идут параллельно, иногда сходясь, как электропровода, давая вольтовы дуги и осыпающиеся искры, причем все повторяется вне зависимости от стран, систем: прокуроры всегда оставались прокурорами, обвиняемые — невинными жертвами, ибо не могли верить в абсурдность власти, которая так может дискредитировать само человеческое, общепринятое и уже пройденное другими, и казалось бы… Но как не спросить об Анжеле Дэвис: «А что, она до сих пор сидит?» А почему бы и нет — марксистка.
На процессе Алины Витухновской через тридцать лет после суда над Бродским судья спрашивает поэтессу: «Где вы работаете?» Ответ: «Пишу стихи». Вопрос: «А разве это работа?» Типичный фашистский вопрос. После таких задачек уже начиналось сжигание книг.
На суде над Валерией Новодворской прокурор спрашивает: «Скажите, почему вы оскорбили русский народ?» Ответ: «В своей статье я процитировала Достоевского». — «Ладно, с Достоевским мы разберемся позже, сейчас вы скажите, зачем вы оскорбили русский народ?..» Как все повторяется — времена, народы, страны.
Два месяца назад в Стамбульском федеральном суде недоумевающий редактор книги статей «Свобода слова в Турции» восклицает: «Но этот процесс напоминает мне процесс Кафки!..» «Так, стоп, — говорит судья. — Вы оскорбили суд — год тюремного заключения». И если я разделил открыто его мнение в суде, то и мне сказали, что если я появлюсь на территории Турции в ближайшие полгода, то буду арестован… Стоп, но это уже…
Нет, все правильно. Если существуют правила игры, то надо играть по ним, но правила есть только для нас, а для них нет. Вернее, они их тоже знают, но играют без них. Настоящей свободы слова нет нигде, есть только степень свободы и возможность открыто бороться за эту свободу. Что ж, спасибо и за это. И это там, где мы говорим, что как будто бы есть демократия. Хотя что такое настоящая демократия, по-моему, не знает никто. Есть научные представления, есть практические. Мы чувствуем всегда лучше всего шкурой, хотя метафора — аксессуар искусства — говорит о ней сильнее всего. Как-то великий премьер Уинстон Черчилль сказал: «Когда вы сидите утром на кухне и пьете свой ежедневный кофе, и вдруг в дверь вашего дома кто-то постучал, и вы уверены, что это только почтальон, и никто больше, — это и есть демократия».
Сицилия настолько ассоциируется в нашем сознании только с мафией, что когда я был приглашен на поэтический фестиваль в Палермо, то думал, что соревноваться будут поэты не в краснословии, а в опознании теней сошедших с арены отцов итальянской «коза ностры». Но когда я поселился в маленьком местечке Манделла на роскошной широкой постели частной виллы с ленивой от жары и дремы прислугой, то понял, что никто меня не будет заставлять делать то, чего я не хочу.
На утреннем кофе я встретил участников чтений и успокоился совсем — нобелевский лауреат из Мексики Октавио Паз, два незнаменитых американца, Борис Чичибабин. Вилла была окружена великолепным садом, где уже с утра начали устанавливать стулья для слушателей, помост для гостей, ну и конечно, рояль. После завтрака пришел устроитель и спросил, нет ли у нас каких-либо желаний, ну, там, поехать куда или увидеть кого… Я неожиданно ляпнул: «Поговорить бы с шефом местной полиции», — и тут же забыл об этом, скрывшись под яркими тентами горячего пляжа. Зеленое Тирренское море было настолько соленым, что глаза были настолько красными после купания, что, как говорилось в старом анекдоте, я мог прятаться в помидорах. Вдруг я услышал шорох ног и крики поиска с моей фамилией на итальянских устах. Я понял, что, очевидно, здесь, как в Грузии, исполняется любое желание гостя, даже и оброненное неловко, — это приехал полицейский, чтобы забрать меня для разговора с шефом карабинеров города Палермо, звучащем в моем мозгу чрезвычайно романтично в связи с почти мистическими слухами о красотах, страхах и так далее. Когда мы проезжали мимо одной из новых площадей, водитель показал мне пальцем и сказал на итальянском английском: «Смотри, это памятник жертвам мафии». И я увидел в центре площади высокие прямоугольные куски железа, вытянутые к небу в виде разлистанной книги. Ни надписи, ни обозначения. Просто все знают. Слишком современно, подумал я… Узнав, что я из Москвы, высокопоставленный полицейский чин, облаченный в истинную форму итальянского защитника закона, долго вспоминал о днях, проведенных в Москве, вежливо говорил о наших переменах. Я ему также отвечал. Наконец, задал свой коронный вопрос, идиот: ну а как здесь, как знаменитая мафия… Он не удивился и запросто объяснил мне, что работает шефом карабинеров в Палермо вот уже десять лет и за это время только пять убийств — трое полицейских и два мафиози были застрелены в перестрелках, да еще два или три побега из тюрьмы Палермо. А вообще, сказал он, все изменилось — мафия ушла с улиц, она не опасна для простых людей, она ушла в строительный и наркобизнес на высокие этажи. Мы потолковали еще о чем-то, и он сказал, что будет сегодня на вечернем приеме в честь приглашенных поэтов и вызвал своего помощника, приказав ему отвезти меня на виллу. Когда мы ехали, я спросил его: «Ну, он шеф, ему положено так говорить о делах гостю, но ты ведь, я вижу, человек из народа, что ты скажешь о мафии?» Он лукаво посмотрел на меня и коротко сказал: «Здесь ничего нет, вся мафия там, наверху, в Риме». И он показал большим пальцем вверх, да так резко, что чуть не пробил крышу своего полицейского «фиата».
Вечер поэзии прошел при полном собрании людей, южных запахов, цикад, сверчков и красивых женщин в сопровождении вечных седых мальчиков. Октавио Паз был увенчан лавровым венком лауреата. А все мы читали свои стихи на родном языке и в переводах на итальянский в его честь.