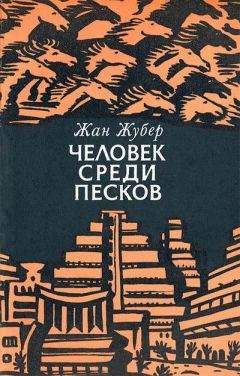— Значит, ничего?
— В ближайшее время ничего.
— Ох!
Я видел, как рука его сжимала рукоятку мастерка, как на лбу проступили капли пота.
— Попытайтесь еще раз.
— Постараюсь сделать все, что в моих силах.
В опалубку выливали последние ведра бетона.
Я решил играть ва-банк и позвонил прямо в министерство.
— Алло, говорит Калляж. Соедините меня с Управлением по делам Юга.
— К сожалению, линия занята.
— Попробуйте все же.
— Но говорю вам, это бесполезно.
— Объясните, что речь идет о Калляже. Это очень срочно.
— Вы что, газет не читаете? Сейчас дела поважнее, чем Калляж.
— Очень прошу вас, все же попытайтесь.
— Хорошо, попробую. Ждите.
— Спасибо.
— Алло. Не получается. Ждите.
— Спасибо.
— Алло. Управление по делам Юга? Да? Даю вам Калляж.
— Алло. Говорит Калляж. Марк Феррьер. Мне срочно нужно с вами переговорить. Мы находимся в труднейшем положении. Нет денег, нет горючего. Вышлите нам срочно бензин. Если нам придется эвакуироваться…
— Ждите наших распоряжений.
— Да, но…
— Слушайте. Горючего больше нет и не будет, вообще ничего не будет. Если вы не в курсе дела, так знайте: через несколько часов начнется война!
Война! Я говорю Симону: «Это война». Он качает головой, он не желает меня слушать. «За несколько недель он совсем спал с лица. Небольшая бородка, темной полоской окаймлявшая щеки, придает ему вид изможденного Христа. Теперь мы почти не расстаемся. Он предложил мне перейти на «ты». В любой час его можно найти на стройке то под солнцем, то при свете зажженных факелов. И похоже, что он все еще держит в руках последнюю горстку преданных ему людей, повинующихся его голосу, а возможно, их соблазняют вознаграждения, которые он раздает щедрой рукой. Однако с каждым днем горстка тает, ибо горцы, чувствуя приближение конца, уходят со стройки по ночам, и после них остаются пустые бараки, которые ветер постепенно заносит песком. В бараках, где каждое утро я не досчитываюсь людей, образуются под койками целые песчаные пляжи. Мы израсходовали последние мешки с цементом.
Я повторяю:
— Симон, война!
— Да, — отвечает он, — да. Что тебе сказали по поводу снабжения? Как дела с горючим?
— Ничего. По-прежнему ничего.
Его осеняет одна мысль. Он знает цементщика в ста километрах от Калляжа, хороший парень, которому он оказал кое-какие услуги. Он позвонит ему и попросит продать нам все запасы. У нас еще есть деньги, так что мы можем заплатить приличную сумму, и притом наличными. Мы бесконечно долго торчим у телефона, и, когда Симона наконец соединяют, уже одиннадцать часов вечера. Наш звонок поднимает мастера с постели, и он вначале ничего не понимает, а когда наконец понимает, то говорит, что сделать ничего не может, так как все запасы цемента заморожены правительством. Симон обещает хорошо заплатить, но ничего не помогает. Симон повышает цену. Я догадываюсь, что наш собеседник начинает колебаться. Наконец заявляет, да, он сделает все возможное, но в таком случае надо приехать немедля, до того как полиция возьмет под контроль его склады.
— Мы приедем через три часа, — говорит Симон.
— Ладно, — отвечает тот, окончательно проснувшись. — Я буду на месте.
Никогда еще я не видел у Симона такого лица: черты разгладились, он на глазах помолодел. И весело рассмеялся.
Мы разбудили Гуру и старшего мастера. Через полчаса два грузовика были готовы, Симон решил, что мы сядем в первый грузовик, а Гуру — во второй. Дорогу он знал. Горючего у нас было достаточно. Все складывалось как будто бы удачно. Мы выехали из Калляжа лунной ночью. В свете луны белели четкие, необычные очертания пирамид. Мощным фронтом стояли они на страже пустынного побережья. Ничто не могло подорвать их могущества. Лишь вершина пятой пирамиды оставалась незаконченной, и, глядя на эту брешь, я вдруг понял страстное желание Симона оставить миру в эту страшную годину совершенное творение. Поначалу он требовал от него добротности, пользы, но с тех пор, как все его иллюзии развеяло, стремился лишь к одному — к красоте. По крайней мере красота останется. Поэтому ему необходимо было во что бы то ни стало довести стройку до конца.
Взревели моторы, колеса чуть побуксовали в песке, но мы все же выбрались на дорогу. Мы проехали мимо Лилового кафе. В нем было темно. Свет наших фар скользнул по фасаду, отбросив на него похожие на руки тени деревьев, и все исчезло. Симон вел машину очень быстро, куря одну сигарету за другой, напряженно вглядываясь в дорогу. Нас провожал долгий шелест тростников, взвихренных мчавшимся грузовиком; порой в загоне я замечал испуганно вскинутую вверх лошадиную голову с взлохмаченной гривой и саму лошадь, странно белесую, точно призрак.
Потом шоссе, отблески огней на наших лицах. В каком-то поселке Симон сбился с пути, ругаясь, остановил машину, сверился с картой, сзади тарахтел второй грузовик. И снова вперед. Еще шестьдесят километров, еще сорок… Нас остановил полицейский патруль. Электрические фонари, черные каски, сверкающие стволы автоматов. Симон стиснул зубы. Началась какая-то суета. Пошли за офицером. Симон стал любезен, убедителен: на ходу сочинил бог знает какую историю. К тому же документы у нас были в полном порядке; и нас отпустили.
Хозяин ожидал нас у склада; впустив на территорию грузовики, он запер ворота. У него был небольшой трактор с грузовым подъемником, и мы быстро закончили работу.
— Еще несколько мешков! — попросил Симон.
— Нет, нельзя.
— Хоть тридцать.
— Да нет же…
— Двадцать!
Кончилось тем, что он дал нам еще десять. Он сварил нам кофе, и мы молча его выпили. Симон отсчитал деньги.
— Вот. Спасибо.
— Если это вас выручит…
— Вы даже не представляете как!
Хозяин выглянул на улицу и только после этого отворил ворота. Мы отправились в обратный путь.
Большую часть дороги я проспал. Я предложил Симону подменить его, но он отказался:
— Нет, я предпочитаю сидеть за рулем. Все равно не сомкну глаз.
— Ты так думаешь?
— Не думаю, а убежден! Спи! У нас впереди трудный день.
— А ты?
— Ну, я…
Он махнул рукой с беззаботностью юнца, чем-то страстно увлеченного и позабывшего обо всем на свете.
— Понимаешь, Марк, я счастлив. Когда у тебя в руках нечто осязаемое, прочное, как вот это, лучше не спускать с него глаз. Да, я счастлив сейчас, как тогда, когда узнал, что смогу построить Калляж, а может быть, даже и больше. Странное дело! В самых отчаянных положениях бывают свои удивительные вспышки счастья. Не беспокойся обо мне, Марк. Спи!
В конце концов я задремал. Иногда, пробуждаясь ото сна, я видел в ярком свете фар фасад здания или силуэт дерева и снова засыпал под рокот мотора.
Наконец я проснулся. Лицо Симона, освещенное приборным щитком, было спокойным, морщины разгладились.
— Где мы? — спросил я его.
Он с улыбкой повернулся ко мне.
— Уже близко. Осталось километров тридцать. Скоро начнет светать.
И в самом деле, небосвод стал бледнеть, а звезды меркнуть. По смешанному запаху стоячей воды и сена я понял, что мы едем среди болот. Я закрыл глаза. Запах стал резче: такой вот запах я вдыхал по утрам в тот не то ночной, не то утренний час, когда деревня пробуждалась ото сна, а я покидал дом Мойры.
Мойра! Она, должно быть, еще спит: волосы распущены, рука изогнута, уткнулась лицом в одеяло — в такой знакомой мне, на редкость ребяческой позе! Но удивительно, я не испытывал ровно ничего, и даже это слово «ребяческой», пришедшее мне на ум при мысли о ней, почему-то не находило отклика в моей душе. И следа не осталось от ее чар, державших меня, и я ощущал не грусть, а скорее чувство избавления, я бы даже сказал — выздоровления. Да, эта ночь внезапно, словно чудом, исцелила меня. Как в сказках: пропел петух, и чары колдуньи отныне бессильны.
И вдруг неожиданно всплыли подозрения, мучившие меня уже несколько недель, но тогда, весь еще во власти чар, я остерегался докапываться до их корней: это она завлекла меня в болотный край — именно так соблазняют солдат-дезертиров, это она, как пленника, отвезла меня к графу, она старалась вырыть между мной и Симоном пропасть, а потом всячески углубить ее. Разве не она, возбудив во мне любопытство, подбила нас ехать в Сартану на богомолье в ту ночь, когда занялся пожар, удалив таким образом в самую опасную минуту со стройки тех, кто мог бы защитить Калляж от нападения? Все прояснилось, как проясняется вдруг содержание письма, когда складываешь его клочки. Я похолодел и, видимо, застонал, так как Симон, обернувшись ко мне и встретившись со мной взглядом, произнес:
— Тебе что-то приснилось.
Я не посмел ему возразить. Уже рассвело. Восходившее солнце скользило по верхушкам тростниковых зарослей. Было свежо, и в беспощадном свете зари на лице Симона вновь проступили морщины.