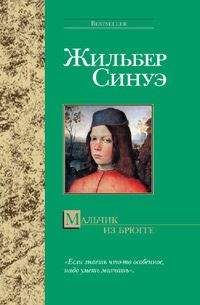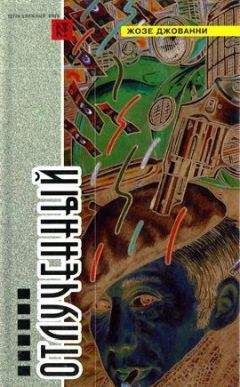— В таком случае я приказываю: ждите меня здесь, около «Журавля». Поверьте, того требует осторожность.
Она чуть поколебалась.
— Вы вернетесь?
— Даю слово. Я вернусь хотя бы ради того, чтобы что-нибудь понять.
Не тратя времени, Идельсбад быстро пересек площадь и оказался перед входом в дом.
Окно с частым переплетом находилось на уровне человеческого роста; из него сочился желтоватый свет. Прижимаясь к стене, Идельсбад медленно придвинулся к окну. Все его чувства обострились. А там, на площади, буржуа уже ушли, сопровождаемые своими слугами, и у подножия «Журавля» осталась лишь хрупкая фигурка сидящей женщины.
Португалец затаил дыхание и отважился заглянуть в окно. Мозер и де Веер были там. Последний жестикулировал посреди комнаты, в гневе ходя от стены к стене. Он обращался к кому-то третьему, невидимому, который должен был находиться где-то в стороне, справа. Несколько капель пота выступило на лбу Идельсбада. Де Веер все еще выхаживал. Он порывисто, явно разгневанный, схватил кубок и со всей силы запустил его в противоположную стену. Лукас Мозер, невозмутимо сложив руки на круглом животе, наблюдал за сценой.
Сколько времени она продлится? Ведь скоро ночь придет на смену сумеркам и укроет своим пологом каналы и набережные. Наконец-то голос де Веера стал стихать, перешел в шепот. Повинуясь знаку, Лукас Мозер направился к выходу из комнаты. Они вот-вот выйдут. Идельсбад отпрянул от окна и бросился к утонувшему во мраке «Журавлю». Дверь домика громко захлопнулась. Шаги мужчин прошелестели по мощеной площади и затихли вдали.
Гигант взглядом поискал молодую женщину. Она неподвижно сидела на прежнем месте. Приободрившись, он вернулся к дому. Подойдя к двери, положил ладонь на ручку, осторожно повернул, слегка нажал на дверь, которая поддалась без труда. Плохо освещенный вестибюль. Небольшой коридор. В конце его, как Идельсбад и ожидал, неподвижно стоял Петрус Кристус.
Можно было подумать, что перед ним призрак, старик. Петрус казался совсем подавленным, обессиленным. Он даже не удивился появлению Идельсбада.
— Нам нужно поговорить, — твердо, но без агрессивности сказал тот.
Не ответив, художник вошел в комнату.
В ней был страшный беспорядок. Мольберт валялся на полу. Кисти рассыпаны по всей комнате. Красители. Остатки пищи. Тюфяк. Из-под трехрожкового канделябра воск расползся по поверхности единственного стола, образовав застывшие ручейки и лужицы. Впечатление такое, будто находишься в подвергшемся разграблению некрополе.
— Садитесь, — вяло сказал Петрус, указывая на табурет.
Португалец отклонил приглашение:
— Нет, вы садитесь. Вас уже ноги не держат.
Петрус повиновался с озадачивающей покорностью.
— А теперь-то вы расскажете мне всю правду? Пока еще не поздно, — произнес Идельсбад.
— Что бы вы хотели услышать? Мне было невдомек… Я не знал… Меня уничтожили…
Его голос походил на стенания.
— К чему эти убийства?
Петрус встрепенулся:
— Нет! Это не я. Я никого не убивал. Клянусь… Никогда!
— А Костер?
Он потерял самообладание:
— Он не умер, не правда ли?
— Нет. И вы здесь ни при чем. Я хочу все знать!
— Я не могу вам ничего сказать. Поймите меня… Они меня убьют.
— Они так или иначе вас убьют. Я предоставляю вам шанс вылезти из этого дерьма.
— Вы заговорили с ними в таверне.
Это был не вопрос, а констатация факта.
— Да.
— Это ужасно. Вы не представляете последствий. Я пропал. По вашей вине.
— Ну-ну. Не будем меняться ролями. Лучше отвечайте мне… — Идельсбад повторил, чеканя слова: — Говорите, Петрус!
Художник погрузил лицо в ладони.
— Хорошо. Все равно я пропал. Моя жизнь кончена. — Угасшим голосом он начал: — Это случилось лет пять на зад, в Байеле. Я только что женился. Мне тогда было лишь двадцать один год, и я мечтал о живописи. Я весь ушел в мечты. Мне не терпелось завоевать богатство и славу. Ту быстроприходящую, головокружительную славу, которая возносит вас на небо, минуя чистилище. Родился первый ребенок, девочка. Матильда. Следующий появился на свет год спустя. Кристофер. Очень скоро я оказался не в чистилище, а в аду. Мой отец, разорившись, не мог помогать нам. Я пытался брать заказы, но везде меня ожидал один ответ: Ван Эйк. Даже лики святых, которые я писал, в глазах людей выглядели бледными копиями. Я «подделывался» под Ван Эйка, перенимал его манеру.
Петрус замолчал, печально улыбнулся.
— Ирония судьбы: в то время я не видел ни одного полотна мэтра. Ни миниатюры, ни даже ее наброска. Возможно, в те дни и родилась моя ярость. А вместе с ней и комплекс неудовлетворенности. Во мне возникло непреодолимое желание мстить. Бесплодное желание, я знаю. Но что вы хотите, молодость обильна на такие бессмысленные импульсы. Я решил встретиться с тем, который являлся причиной моего невезения. Мне очень нужно было увидеть этого близнеца в искусстве, с которым все так несправедливо меня сравнивали. Я хотел дотронуться до человека, плагиатором которого я становился. Произошло это год назад. Встречу устроил мой отец при посредничестве своего друга — заместителя бургомистра, эшевена[17]. Результат встречи? Восторг. Безграничное восхищение. Как? Эти глупцы осмеливались обвинять меня в подделках? Разве можно подделать гения?! А ведь Ван Эйк был настоящим гением. Увы! Это открытие привело меня в совершенное отчаяние, и я окончательно убедился, что мой горизонт ограничен. В вечер встречи я разыскал эшевена и, находясь в беспомощном состоянии, открыл ему свою душу, поведал о денежных затруднениях. Он внимательно выслушал меня и, когда я закончил, предложил мне вступить в то, что он стыдливо называл братством. Это было некое сборище, действия которого сравнимы с нашими гильдиями. Он заманчиво обрисовал мне все материальные выгоды, которые я мог бы из этого извлечь, и заверил: что бы со мной ни случилось, наши братья — так он называл членов этой гильдии — всегда протянут мне руку помощи. Я, естественно, расспросил его о том, что должен делать в обмен на такую поддержку. Ничего, заверил он меня, разве что не отказываться, когда потребуются мои услуги. «Какого рода услуги?» — не преминул спросить я. Мой собеседник ограничился непонятной отговоркой. Одним словом, чуть позже я согласился.
Художник умолк, последние его силы ушли на эти признания.
Послышался звон колокола на дозорной башне, возвещавший о наступлении комендантского часа.
— Продолжайте, — торопил его Идельсбад. — Чем занималась эта гильдия?
— Вы не поверите, но я никогда не мог с точностью сказать о ее истинных целях.
— Вы все же участвовали в собраниях?
— Верно. Но нас всегда было немного. Человек пятнадцать, не больше. Я часто встречал на них Ансельма де Веера, друга эшевена, реже — Лукаса Мозера и еще одного — флорентийца.
— Его имя?
— Знаю только, что зовут его Джованни. Насколько я понял, он из рода Альбицци, древней флорентийской семьи, заклятых врагов Медичи. Судя по всему, он был наиболее близок к старшине гильдии.
— А этот старшина? Полагаю, лично он вам не известен?
Петрус отрицательно покачал головой:
— Знаю только, что он живет во Флоренции и его называют La Spada.
— La Spada… Я уже слышал от вас это слово. А чему были посвящены собрания?
— Сейчас скажу. Но прежде вы должны знать, что гильдия состоит из нескольких иерархических слоев, каждому присвоен определенный цвет: черный, красный и зеленый. Черный цвет — самый главный. Вы уже поняли, что я, как новичок, принадлежу к цвету зеленому. Отсюда и мое незнание сути. Сначала дискуссии — а скорее, поучения — касались философии и религии. Христианство главным образом должно оберегать и защищать любой ценой от всяческой ереси. Никто не имеет права высказать ни малейшего критического замечания по поводу догм или непогрешимости Святого Отца. Текст и только текст. Всякое сомнение, вопросы о первопричине недопустимы. Разумеется, освобождение Гроба Господня являлось абсолютным идеалом, и все сыны Церкви должны были активно участвовать в этом святом деле.
— Пока ничего нового, — заметил Идельсбад.
— Согласен. Но подобная строгость мыслей применялась и к другим сферам. Нам объясняли, как мы должны хранить и укреплять традиции, унаследованные от наших отцов. Что самая большая опасность исходила от иностранца, откуда бы он ни прибыл и кем бы ни был. Что нам запрещено вдохновляться — или даже слушать — разносимыми им вредными идеями. С этой целью мы должны окружать свои города стенами, ставить около них наблюдателей и часовых, ужесточить наши законы, чтобы воспрепятствовать доступу к ним, и если один из таких нежелательных иностранцев просочится к нам, то нужно подвергнуть его изоляции, принуждая к высылке, а в случае неповиновения приговорить к смерти. Незаметно идея о физическом устранении людей, противоречащих идеалам гильдии, прижилась на всех наших собраниях. Она стала органичной.