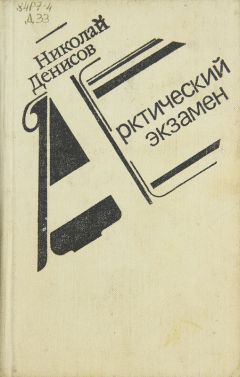Приходили люди, стояли у гроба.
А в огороде в это время полыхал жестокий костер – мама распорядилась вынести и сжечь на этом пустом осеннем огороде матрас, подушку, простыни, комковатое ватное одеяло, старенький полушубок, что подкладывали больному под подушку, то есть все то последнее, на чем провел свои остатние на свете дни наш отец.
Страшно и могуче восстал посреди куч потускневшей картофельной ботвы этот костер, взвившись полыхать от «порции» бензина, погодившегося на дне литровой бутыли, для какой-то надобности стоявшей в подполе. Языческое пламя костра металось с адским треском, поглощая в огне миазмы не одоленной когда-то крепким человеком болезни, клубясь и завиваясь жирными дымами.
С ужасом в груди глядел я на метавшиеся драконы огня, которые испепеляли все прошлое ушедшего в иной мир. А прошлое это: церковный клирос, где отец наш мальчишкой пел в православном хоре старообрядцев, комсомольская молодость в колхозной артели, куда они привели с юной матерью на общественный двор свою единственную лошадь Булануху, затем – строительство Магнитки, Финская, Отечественная война, где гвардии рядовой отец наш воевал в пехоте под Ростовом-на-Дону, Воронежем, Таганрогом. Тяжелое ранение, возвращение в родные Палестины. Работа учетчиком и токарем в совхозной МТМ, зав. материальными складами, затем – штатный охотник-ондатролов. И только потом вольная рыбацкая жизнь – уже на пенсии…
Хоронили отца, как он нам «завещал» однажды: «Без траурных оркестров, без попов, но обязательно – с ружейным салютом». В доме было два гладкоствольных охотничьих ружья. И мы с приехавшим на похороны братом Сашей поочередно салютовали в небо дробовыми зарядами, пока траурный «кортеж», огибая околичный, выжженный недавно деревенскими пакостниками, сосновый рям, неспешно двигался к заросшему дурной осокой, старообрядческому, то есть двоеданскому, погосту. Просалютовали мы там из ружей и после горького погребения. Будто отрубили, невозвратно осиротев, отправили в вечные пределы – вчерашнее, дорогое, заветное…
Вскоре стали слышаться орудийные погребальные салюты в Москве – на Красной площади. Из первых уходящих политбюровцев громко хоронили идеолога Суслова. Про Пельше не вспомню. Видимо, ушел еще раньше. Потом погребли еще кого-то. И еще! Через год после окуневских похорон отца умер Брежнев, едва отстояв на мавзолее в октябрьский праздник. Брежнева почему-то было жальче остальных.
Недолго побыл в верховном чине больной и «не имевший» национальности Андропов. Национальность, конечно, была вполне определенная, о чем просвещенные интеллигенты ведали: папа – В. Либерман, матушка – Е. Файнштейн. Но нигде в официальных бумагах сие не обозначалось. Низовые народные массы, которым стали продавать дешевую водку «андроповку», сильно этим не интересовались. Выходило, что Андропов – гражданин вселенной, которого пытались вылечить главный лекарь страны Чазов и приглашенный профессор из США А. Рубин. Нет, не помогли никакие большие затраты мировых банков, где и сейчас сидят андроповские соплеменники. А они своих редко бросают…
Про Андропова позднее писали, что это он тайно намечал реформы в советском государстве, на которые потом наивно и опрометчиво клюнул да быстро – под доглядом и контролем вечных наших недругов американцев – погорел Меченый. Великую страну погубил и себе стяжал «славу» предателя…
В тюменской школе №10, где училась моя младшая дочка Наташа, висел стенд с членами и кандидатами в члены Политбюро. После всякого траурного кремлевского дела и громких похорон, из стенда убирали фотокарточку очередного умершего. Четвероклассница и примерная пионерка Наташа, с тревогой следя за исчезновением фотокарточек, однажды сказала: «Осталось двенадцать… Папа, а когда все они умрут, партии КПСС не будет?» Как в воду глядел ребенок. А устами ребенка, известно, глаголет истина.
Летом 1988 года наш сухогруз «Уильям Фостер» шел через Атлантику из Южной Америки, вез полные трюмы аргентинской шерсти и железные «макаронины» труб для Нидерландов и Германии, где мы потом разгружались. Так вот из Москвы мы слышали -транслировали на весь пароход! – как происходила 19-я партийная конференция с участием будущего губителя страны Ельцина. И это уже была не ТА партия. Порядочных генсек Горбачев выдавил из высшего руководства, а негодяев, типа «хромого беса» Яковлева и злого грузинского «кэгэбэшника» Шеварнадзе, приблизил и возвысил. Они и свора им подобных партбилетчиков вскоре, обернувшись в демократов, сдали страну ворам на растерзание. А те, кто «не обернулись», как-то уж очень пугливо-покорно приняли предательство верхушки. Ни вскрика возмущенного, ни выстрела по предателям (а то и в собственную преданную партийную грудь!) – не произошло нигде. Тюменский обком КПСС (по местным слухам!) закрыл на замок простой милицейский сержант, опечатал и никому из штатных, приходящих на работу чиновных обкомовцев, дверь не открыл.
Промолчали.
Промолчало и всё прогрессивное человечество.
Завершив в Питере очередное дальнее плавание, известив об этом родных, для чего жарким летним предвечерьем, как матросы-балтийцы в октябре 17-го, «взяв штурмом» почту и телеграф, я затем добрался самолетом до Тюмени. Застал здесь полное торжество местной гласности. «Тюменский комсомолец», при редакции которого я вел последние годы литературное объединение и делал литературные страницы, из номера в номер печатал теперь грязные статейки против «русофилов», «квасных патриотов», откуда- то взявшихся «шовинистов», короче, вообще – против порядочных русских людей выступал. В том числе и против меня – своего штатного сотрудника, временно находившегося в мировом океане.
Все публичные и потайные нетопыри, долгоносики, чешуйчатые, кишечнополостные, как впоследствии их станет именовать Александр Проханов в своей боевой газете «Завтра», успели вылущиться из глухих подворотен, выползти из кротовых нор, громко демонстрируя, разрешенную демократией, ненависть и злобу – к народу, к стране.
Возле корытца наглых окололитературных волчат застрял, так и не принятый (Москвой) в СП СССР, Саша Гришин, а верховодил и дирижировал этой какофонией мародерства страшно самоуверенный, «лучший воспитанник» свердловского детского сочинителя Крапивина – Костя Тихомиров. И «комсомолец», размашисто кайфуя в омуте объявленных свобод, то и дело предоставлял мародерам свои страницы. Тюменские писатели узнавали – кто из них «без позвоночника», кто «с кривой улыбкой», а кто «с ужимками барышни». Ну и с прочими «литературоведческими» прелестями, явленными из газетных сочинений Кости и его волчат, а также «педагога» Отто Коха, который публично облаивал каждый выпуск «Тюмени литературной», сожалея, что «мы живем не в правовом государстве», мол, если бы жили в правовом, то «главный редактор «ТЛ» находился бы в соответствующем месте». Был еще один наставник этих «волчат» – университетский доцент Владимир Рогачев, чем-то обиженный в молодости, активно витийствовавший как демократ в начальную пору перестройки.
Тут надо заметить, что в принципе не глупый паренек Костя Тихомиров через какое-то время прозрел (как начал прозревать перед уходом из жизни Рогачев, а впоследствии – перед своей кончиной – и Кох), подошел ко мне с извинениями, мол, «был не прав в своих нападках». И также вскоре он оказался в моем доме, мы мирно говорили о литературе и угощались на кухне коронным тюменским блюдом – зажаренным долгоногим бройлером. Как бы сложились дальнейшие наши отношения, сказать сложно. Через неделю, оказавшись в разгульной компании на большом озере Андреевском, под Тюменью, Костя среди ночи сел в лодку, уплыл в темноту. И – навсегда. Нашли не сразу…
Замечу и о свердловском наставнике Кости – известном В. Крапивине. Году в 2008-м, прожив многие годы в уральском городе, он переехал в Тюмень, где довелось ему родиться. И сразу – подкатывало семидесятилетие – возник вопрос о юбилейных награждениях. После нескольких прежних отказов от власти, на этот раз он пробил себе звание почетного гражданина города. Пробивал также собственный музей (при жизни! – по законам РФ не полагается!) и даже демократический орден (советские он успел получить на Урале). И «девушка» из наградного отдела тюменской областной администрации периодически звонила мне – председателю писательской организации, просила написать представление на «Орден Почета» сочинителю. Я также периодически и справедливо отказывался это сделать, поскольку данный товарищ «был не наш», а продолжал состоять на учете в «апрелевском» Союзе писателей города Свердловска-Екатеринбурга. Ситуация напоминала известное изречение – о сути «сверхжадности»: «Быть в плену, любить чужую жену и искать себя в списках награжденных!» К тому ж, книги Крапивина на птичьем языке и его детишки-герои, размахивающие масонскими шпагами, не грели мне душу, не вдохновляли на нужную для наградотдела бумагу. Хотя сам сочинитель, похоже, числил себя эксклюзивным изделием всех времен и народов, единственным, как солнце на небе, талантом в округе.