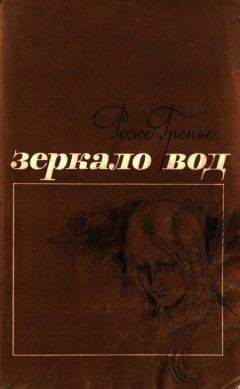Мой учитель в Эколь Нормаль, философ Жак Деррида, осмелился пойти дальше в одном из своих последних текстов, в котором пишет, что, оказавшись голым перед своей кошкой, неожиданно испытал чувство стыда. Когда-нибудь я к этому вернусь…
В конце новеллы «Пес» ставится вопрос о прощении.
Простить?
Нет ничего более затруднительного.
Здесь мой герой, доктор Сэмюэл Хейман, добивается, благодаря своей собаке, выявления человечности в предателе и отказывается от мести. Я восхищаюсь его силой. И слышу в нем эхо исторического персонажа, которому в последние годы посвящал много времени. Это Отто Франк, отец Анны Франк.
В эти дни в театре «Рив Гош», руководит которым Стив Суисса, Фрэнсис Астер с другими актерами репетируют написанную мною пьесу — «Вокруг дневника Анны Франк». Благодаря историкам из музея «Дом Анны Франк» в Амстердаме и членам фонда Анны Франк в Базеле я узнал, что Отто Франк никогда не поощрял расследования, целью которого было выяснить, кто же предал его семью и друзей, скрывавшихся в тайном доме. В моем тексте, когда один из персонажей возмущается, как же мерзавец может спокойно спать после того, как отправил восемь человек на смерть, Отто Франк заявляет: «Мне жаль его детей».
Он не захотел множить насилие. Он увидел в некой правоте акта мщения отсутствие справедливости. Это возвышенно.
Слишком?
Не знаю. Если совершат насилие над моими близкими, я способен убить обидчика.
Иногда мои герои оказываются морально выше меня.
Я закончил рассказ «Пес» и очень переживал.
Хотя я считал этого Сэмюэла Хеймана непохожим на меня — нас сближала разве что привязанность к собакам, — я никак не могу решить, не несет ли он в себе скрытую мизантропию, которую я в себе постоянно подавляю.
Давайте договоримся: я слыву любознательным жизнелюбом, обожаю человечество и все его сложности, радуюсь, встречая новых людей, живо интересуюсь разными людьми и произведениями искусства — не будь этого, мне бы не стать ни романистом, ни драматургом, ни читателем, — но при этом моя вера в человека иногда куда-то пропадает. Редко, хотя и регулярно, чтобы утвердиться в вере в человека, мне необходимо сделать над собой волевое усилие, настолько она бывает поколеблена насилием, несправедливостью, глупостью, несовершенством, безразличием к красоте и, самое главное, согласием с серостью.
Нужно любить человека… но как трудно его любить! Точно так же, как невозможно быть оптимистом, не познакомившись близко с пессимизмом, точно так же, как невозможно испытывать к человечеству нежные чувства без определенной доли ненависти к нему. Одно чувство всегда заключает в себе свою противоположность. Личное дело каждого, с какой стороны подойти.
* * *
Какое счастье! Я снова с Моцартом. Вероятно, Моцарт самый важный человек в моей жизни — я говорю о мертвых, — настолько он вызывает во мне чувство восхищения, культ красоты, он дает столько энергии радости, ведет меня к изумленному принятию тайны.
На этот раз речь не о том, чтобы заставить Моцарта говорить по-французски, как я сделал это в «Свадьбе Фигаро» или в «Дон Жуане», и не о том, чтобы рассказать «Мою жизнь с Моцартом», — нет, в этой новелле он будет чем-то вроде водяного знака.
Я изумляюсь, насколько быстро уже через несколько лет после своей смерти Моцарт выходит из безвестности и устремляется к славе. Только что он растрачивал силы в поисках заработка, заказов, он умирает в тридцать пять, хоронят его в общей могиле, и ни один человек не провожает его в последний путь, но проходит два десятилетия, и тот же Моцарт становится для всей Европы символом гениальности в музыке, он вознесен на вершину славы, где он по сей день и находится.
Что же случилось?
Моцарт, музыкант XVIII века, делает настоящую карьеру в XIX. Хотя он и умер в 1791-м, именно он оказывается первым музыкантом XIX века, воплощающим образ нового художника. Избранный музыкантами и любимый ими — Гайдн провозглашает Моцарта «самым великим композитором, которого знало человечество», — он оказывается окружен особой аурой в эпоху романтизма, поскольку творцы следующего поколения — Бетховен, Россини, Вебер, а затем Шопен, Мендельсон, Лист и Берлиоз стали независимыми композиторами. Следуя завету Моцарта, они отдаляются от власти, перестают творить для королей, принцев, богатых аристократов, называющих себя судьями в деле вкуса. Теперь сами композиторы диктуют людям, что такое хорошо в музыке и что такое плохо. Моцарт становится их музыкантом — музыкантом музыкантов. Потом он станет народным, а затем и всеобщим.
На этом пути важная роль отводится вдове Моцарта, Констанце, урожденной Вебер, и барону Ниссену, ее второму мужу, потому что в течение многих лет они собирают произведения композитора, издают их, способствуют их исполнению.
Историки спорят о том, чья роль важнее, Констанцы или барона. Большинство из них, следуя за отцом Моцарта и его сестрой, предлагают считать Констанцу хорошенькой дурочкой, неряхой, не способной на ответственную, прагматичную и последовательную деятельность. Современные биографы Констанцы пытаются ее реабилитировать, указывая на то, что она сделала для Моцарта после его смерти.
Очевидно и то, что, когда начинаешь разрабатывать эту тему, понимаешь, насколько велика была и роль барона Ниссена. Этот датский дипломат не только помогал Констанце, обязательный, восторженный и вместе с тем упрямый, он провел классификацию партитур, списывался с издателями, вел с ними переговоры вместо жены, от которой даже получил право подписи для управления всем, что имело отношение к Моцарту; и наконец, собрав архивы и свидетельства современников, он самостоятельно пишет обширную биографию композитора. В ней, впрочем, именно он и реабилитирует Констанцу, свою супругу, как жену Моцарта, выступая против убийственных заявлений Наннерль Моцарт, сестры композитора. Его защита милой Констанцы логична и вместе с тем преисполнена странности. Логична, потому что он живет с этой женщиной. Странна, поскольку он живет с призраком своего соперника.
Соблазнительно найти в этом нечто забавное, как это сделал Антуан Блонден, или же попытаться искать ключ к разгадке в подавляемой гомосексуальности, как это делает Жак Турнье в «Последнем из Моцартов». Что же до меня, то предпочитаю не нарушать очарования тайны страсти мужчины к другому мужчине, который был раньше мужем его жены.
Эта семья для меня может существовать лишь как жизнь втроем.
Почему должен быть один-единственный ключ к поведению барона Ниссена по отношению к Моцарту? Почему эта страсть, которую он испытывает к первому мужу своей жены, должна быть окрашена в какие-нибудь цвета: почитание гения, гомосексуальные тенденции, финансовый интерес, любовный треугольник, эксплуатация женственности?
А если это было все вместе?
Литература заставляет нас настороженно относиться к слишком простым решениям. В этом она действует совершенно иначе, чем идеология, которая старается искать элементарное во множественности.
Идеологи, жадные до того, чтобы свести многообразие внешних проявлений к очевидному принципу, перестают задумываться о собственном скрытом предрассудке: правда-де должна быть простой.
Но почему?
Почему правде не быть сложной? Сотканной из множества причин?
Куда заведет ее наваждение элементарного?
Идеал просвещенной простоты поначалу освещает путь, а потом ослепляет.
Романисты, эти апостолы сложности, показывают связи, не ограничивая поле своего исследования, не ставя ему никакой цели, идеологи же начинают рыться в этом разнообразии для того, чтобы найти основание.
Идеологи выхолащивают жизнь, романисты наполняют светом.
Из моралистов никогда не получается хороших романистов. Когда они решаются ими стать, они вводят в воспроизведение реальности холодность, свет из операционной, они расчленяют живое, что пахнет лабораторными исследованиями.
Вместо того чтобы привести нас к родильному дому, они запирают нас в морге.
Это может быть интересным, но никогда — соблазнительным.
Если только не начать ценить поэта в патологоанатоме.
* * *
Путешествие в Исландию с мамой. Корабль режет волны и уносит нас к вечному дню.
В бесконечности вод и небес мы думаем о папе, ушедшем от нас две недели назад.
Мы говорим о нем спокойно, с нежностью и радостью, так, будто он нас по-прежнему слышит.
Мы решили ехать в этот круиз задолго до папиной агонии, но после долгих лет страданий его смерть была настолько предсказуема, логична, что мы знали: наше путешествие придется на траурный период.
Папа знал, что умирает, хотел этого конца, говорил мне о нем, желал препоручить мать моим заботам после своего ухода. Мы счастливы, что смогли исполнить его волю.