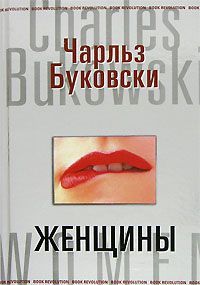– Мне сожрать чего-нибудь надо.
– Съешь два яйца всмятку. Со щепоткой чили или паприки.
– Тебе сварить?
– Спасибо, да.
Зазвонил телефон. Сесилия. Билл немного поговорил, затем повесил трубку.
– Торнадо идет. Один из самых больших в истории штата. Может сюда завернуть.
– Вечно что-то случается, когда я читаю. Я заметил, как потемнело.
– Уроки могут отменить. Трудно сказать. Но лучше поесть.
Билл поставил яйца.
– Я тебя не понимаю, – сказал он, – ты даже вроде не похмельный.
– Я каждое утро похмельный. Это нормально. Я приспособился.
– Ты все-таки неплохо пишешь, несмотря на кир.
– Давай не будем. Может, это из-за разнообразия писек. Не вари яйца слишком долго.
Я зашел в ванную и посрал. Запор – не моя проблема. Я как раз выходил оттуда, когда Билл завопил:
– Чинаски!
И я услышал его уже со двора, он блевал. Потом вернулся.
Бедняге было по-настоящему херово.
– Прими соды. У тебя валиум есть?
– Нет.
– Тогда десять минут после соды подожди и выпей теплого пива. Налей в стакан, чтобы газ вышел.
– У меня есть бенни.
– Пойдет.
Темнело. Через четверть часа после бенни Билл принял душ. Выйдя, он уже выглядел в норме. Съел сэндвич с арахисовым маслом и резаным бананом. Выкарабкается.
– Ты свою старуху по-прежнему любишь? – спросил я.
– Господи, да.
– Я знаю, что не поможет, но попробуй представить, что так бывало со всеми нами – по крайней мере один раз.
– Не поможет.
– Когда тетка пошла против тебя, забудь про нее. Они могут любить, но потом что-то у них внутри переворачивается. И они могут спокойно смотреть, как ты подыхаешь в канаве, сбитый машиной, и плевать на тебя.
– Сесилия – чудесная женщина. Темнело сильнее.
– Давай еще пива выпьем, – предложил я.
Мы сидели и пили пиво. Стало совсем темно, задул сильный ветер. Мы особо не разговаривали. Я был рад, что мы встретились. В нем очень мало говна. Он устал – может, все из-за этого. В США ему со стихами никогда не везло. Его любили в Австралии. Может, когда-нибудь его здесь и откроют – а может, и нет. Может, к 2000 году. Крутой коренастый мужичок, видно, что и вломить может, видно, что многое повидал. Мне он нравился.
Мы тихо пили, потом зазвонил телефон. Снова Сесилия. Торнадо прошел или, скорее, обогнул нас. У Билла будет урок. У меня в вечером будут чтения. Ништяк. Все работает. Все при деле.
Около 12.30 Билл сложил блокноты и что там еще нужно в рюкзак, сел на велосипед и покрутил педали в Университет.
Сесилия вернулась домой где-то днем.
– Билл отчалил нормально?
– Да, на велике. Прекрасно выглядел.
– Как прекрасно? Опять нажрался?
– Он выглядел прекрасно. Поел и все такое.
– Я его по-прежнему люблю, Хэнк. Просто я больше так не могу.
– Конечно.
– Ты не представляешь, что для него значит твой приезд. Он, бывало, мне твои письма читал.
– Грязные, а?
– Нет, смешные. Ты нас смешил.
– Давай поебемся, Сесилия.
– Хэнк, опять за свое.
– Ты такая пампушечка. Дай, я в тебя погружусь.
– Ты пьян, Хэнк.
– Ты права. Не стоит.
В тот вечер я снова читал херово. Плевать. Им тоже было наплевать. Если Джон Кейдж[15] может получать тысячу долларов за то, что съест яблоко, той я могу принять 500 плюс билет за то, чтоб побыть выжатым лимоном.
После все было так же. Маленькие студенточки подходили со своими юными горячими телами и глазами-маяками и просили подписать какие-то мои книги. Мне бы хотелось отъебать пятерых за ночь и вывести из своей системы навеки.
Подошла парочка профессоров – поухмыляться мне за то, что я такой осел. Им полегчало, будто им тоже удастся что-нибудь извлечь из пишущей машинки.
Я взял чек и свалил. После в доме у Сесилии намечалось маленькое избранное сборище. Это входило в неписаный контракт. Чем больше девчонок, тем лучше, но в доме у Сесилии мне мало что светило. Я это знал. И точно – утром я проснулся в своей постели, один.
Наутро Билл снова болел. В час у него опять были занятия, и перед уходом он сказал:
– Сесилия отвезет тебя в аэропорт. Я пошел. Прощаться не будем.
– Ладно.
Билл надел рюкзак и вывел велосипед за дверь.
Я пробыл в Лос-Анджелесе недели полторы. Стояла ночь. Зазвонил телефон. Сесилия, она рыдала.
– Хэнк, Билл умер. Ты – первый, кому я звоню.
– Господи, Сесилия, я даже не знаю, что сказать.
– Я так рада, что ты приезжал. Билл только о тебе и говорил потом. Ты не представляешь, что твой приезд для него значил.
– Как это случилось?
– Он жаловался, что ему очень плохо, и мы отвезли его в больницу, а через два часа он умер. Я знаю, все подумают, что у него передозировка была, но это не так. Хоть я и стремилась развестись, я его любила.
– Я тебе верю.
– Я не хочу тебя грузить.
– Все нормально, Билл бы понял. Я просто не знаю, что сказать, чтобы тебе легче стало. Я сам как бы в шоке. Давай я тебе потом еще позвоню?
– Позвонишь?
– Ну конечно.
Вот проблема с киром, подумал я, наливая себе выпить. Когда случается плохое, пьешь в попытках забыть; когда случается хорошее, пьешь, чтоб отпраздновать; когда ничего не случается, пьешь, чтобы что-нибудь случилось.
Как бы ни болел Билл, как бы несчастен ни был, никто не верил, будто он скоро умрет. Много было таких смертей, и, хотя мы знаем о смерти и думаем о ней каждый день, когда неожиданно умирает человек особенный и любимый, трудно, очень трудно, сколько бы других людей ни умирало – хороших, плохих или неизвестных.
Я перезвонил Сесилии в ту ночь, и на следующую опять позвонил, и еще раз после этого, а потом звонить перестал.
Прошел месяц. Р. А. Дуайт, редактор «Хавки-Пресс», написал мне и попросил сочинить предисловие к «Избранным стихам Кизинга». Кизингу, благодаря его смерти, наконец засветило хоть какое-то признание за пределами Австралии. Затем позвонила Сесилия:
– Хэнк, я еду в Сан-Франциско увидеться с Р. А. Дуайтом. У меня есть несколько снимков Билла и кое-что из неопубликованного. Мне хотелось с Дуайтом это все просмотреть и решить, что публиковать. Но сначала я хочу на денек-другой заехать в Л. А. Ты можешь меня в аэропорту встретить?
– Конечно, можешь даже у меня пожить, Сесилия.
– Спасибо большущее.
Она сообщила, когда прилетает, и я пошел и вычистил туалет, оттер ванну и сменил простыни и наволочку на своей постели.
Сесилия прилетела в 10 утра – а мне в такую рань чертовски сложно вставать, – но выглядела она славно, хоть и пухловато. Крепко сбита, низкоросла, смотрелась среднезападно, вся такая отдраенная. Мужики на нее заглядывались, так она шевелила задом: тот выглядел мощно, слегка зловеще и возбуждал.
Мы дожидались ее багажа в баре. Сесилия не пила. Она заказала апельсиновый сок.
– Я обожаю аэропорты и пассажиров, а ты?
– Нет.
– Но люди же такие интересные.
– У них просто больше денег, чем у тех, кто ездит поездом или автобусом.
– На пути сюда мы пролетали Большой Каньон.
– Да, он по дороге.
– У этих официанток юбки такие коротенькие! Смотри, даже трусики выглядывают.
– Хорошие чаевые. Они все живут в хороших домах и водят «эм-джи».
– А в самолете все такие милые! Со мной рядом мужчина сидел, так он даже предлагал купить мне выпить.
– Пошли багаж заберем.
– Р. А. позвонил и сказал, что получил твое предисловие к «Избранным стихам» Билла. Он прочел мне кое-что по телефону. Это прекрасно. Я хочу сказать тебе спасибо.
– Не стоит.
– Я не знаю, как тебя отблагодарить.
– Ты уверена, что не хочешь выпить?
– Я редко пью. Может, попозже.
– Что ты предпочитаешь? Я достану, когда до дому доедем. Я хочу, чтоб тебе было удобно, чтобы ты расслабилась.
– Я уверена, что Билл на нас сейчас смотрит сверху – и что он счастлив.
– Ты так думаешь?
– Да! Мы получили багаж и пошли к стоянке.
В тот вечер мне удалось влить в Сесилию 2 или 3 стакана. Она забылась и высоко задрала одну ногу на другую: я углядел кусочек хорошей тяжелой ляжки. Прочная. Корова, а не женщина, коровьи груди, коровьи глаза. Многое могла выдержать. У Кизинга был хороший глазомер.
Она была против того, что убивали животных, она не ела мяса. Пожалуй, мяса в ней и так хватало. Все прекрасно, рассказывала она, в мире есть красота, и нам нужно лишь протянуть руку и ее коснуться: вся она будет наша.
– Ты права, Сесилия, – сказал я. – Выпей еще.
– У меня уже в голове шумит.
– Ну так и что с того, пускай пошумит.
Сесилия вновь закинула одну ногу на другую, и ее бедра сверкнули. Сверкнули очень-очень высоко.