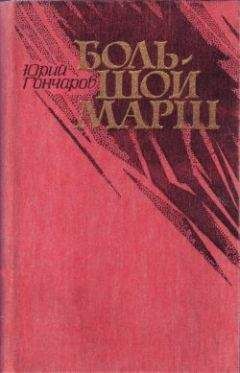Надо было все же что-то произнести, пусть и его услышат там, куда возносятся голоса всех, кто молит о заступничестве и избавлении. Но старик не помнил ни одной молитвы, он давно уже забыл их и не повторял ни вслух, ни про себя, а те слова и чувства, что были в нем, не складывались в связную речь. И что говорить, куда донесется его голос, кто будет заступником, избавителем, если такое опустошение в народе и армии и нет среди живых и его Ивана.
Старику вдруг явственно и беспощадно пришло это в сознание. Он все время думал о своем сыне, как о живом, постоянно твердил себе это, гнал дурные мысли, а сейчас, будто это была точная, дошедшая до него весть, ощутил холодную пустоту. Нет Ивана, нет, это так, давно уже нет, второй год, с первых же дней войны… А то бы разве случилось такое – чтоб так далеко прошли враги, одержали такие победы! Разве допустил бы до этого его сын, будь он живой и в руках его оружие, чтоб у родного дома убили его мать, спалили всю его деревню, чтоб отец его оказался у немцев в плену, всего лишенным и все потерявшим, бездомным и сирым бродягой, в живые мощи источенным голодом…
Какой он был ладный, красивый, сильный, когда заезжал последний раз проведать отца с матерью! В командирских ремнях, с малиновыми петлицами… С ним были два его товарища из полка. Ивана совсем не ждали, не было об этом ни письма, ни телеграммы. А он ехал с друзьями по делу, путь их проходил близко, и было у них немножко времени – и они завернули в деревню. И правильно Иван сделал, – будто знал, что с родителями ему уже больше не повидаться… Было лето, июнь, косили траву. Сын и его товарищи не захотели бездельничать, скинули ремни, гимнастерки и, босые, в голубых майках, пошли на луг к бабам и мужикам, взяли в руки косы. И с какими же молодецкими замахами, с какой радостью с детства знакомого им труда работали они на лугу вместе со всем народом! Мать принесла им из погреба холодного молока, и они, отдыхая, по очереди пили из крынки, с влажными от пота, взгоряченными лицами, травяными былками в волосах, все трое, как на подбор, белозубые, широкие в плечах, схожие чем-то, как братья…
Уезжать им надо было следующим утром, с первыми проблесками зари. Спать они легли во дворе, на сене. Пахло мятой, во все небо густо сверкали звезды, была тишь, такой покой, такое благо, что казалось – всегда будет только так, ничто не может поколебать эту мирную тишину, нарушить это благо. Иван, его друзья, тысячи таких рослых, красивых, сильных парней в зеленых армейских гимнастерках не дадут свою землю в обиду, защитят, отстоят ее при нужде. Можно отбросить, забыть все тревоги, не держать их ни в мыслях, ни в сердце…
И вот – всего год с небольшим с того счастливого дня, с той счастливой ночи…
Уже все лицо старика было мокро от слез. Трясущаяся голова его опускалась все ниже и ниже…
Тихо скрипнула дверь, появился отец Поликарп. Он переоделся, снял полушубок, шапку, теперь он был в черной рясе до пола, волосы его были ровно расчесаны и, закрывая уши, опускались до плеч. Но кирзовые сапоги остались на нем и громко стучали каблуками по каменному полу. В руках он вынес тяжелую толстую книгу в лиловом бархате, с медными застежками; подойдя к аналою, он положил книгу на косую его поверхность, раскрыл на закладке, поправил покривившуюся свечу.
Старик утер ладонью лицо, нагнувшись, подобрал палку и фуражку, они выпали из его рук, и нашарил он их не сразу, пол кутала тьма, в которой его глаза, залитые влагой, ничего не видели.
– Благодарствую, – сказал старик священнику. – Пошел я.
– Заночевал бы, – предложил священник. – Я могу направить. Скажешь, от меня, – примут.
Старик помедлил, колеблясь.
– Люди надежные, – продолжал священник. – Довериться можно. Они уже многих принимали. И не таких, как ты…
– Нет, лучше я пойду… – решил старик, пересиливая в себе соблазн человеческого жилища. Большой все-таки это риск – не для него, для тех добрых людей, что укроют его по слову священника.
Старик приблизился к двери, протянул руку, нащупывая, как ее открыть.
– Я выведу, – сказал отец Поликарп, беря с аналоя свечу. – Не споткнись, порог тут…
Старик обернулся.
– Что будет-то? – глухо, все еще со слезами на лице, вопросил он.
Его трудно было расслышать и понять, но отец Поликарп со свечою в руке понял, о чем он спрашивает, что томит старика.
– Гибель и изгнание супостатов, – ответил он, ни секунды не раздумывая, как говорят такое, что давно обдумано и решено и готовым лежит в мыслях и душе.
– Силы нашей нету уже, – горестно сказал старик. – За Дон уже отступили. А там и до Волги недалеко. А Волга – это уже России конец…
– Соберется сила. Не вся еще она. Тыщу лет Россия стоит. Тыщу раз враги на нее нападали. А никто одолеть не мог. Наполеон первопрестольную взял, пожаром дотла сжег. А назад бежал, и все его войско погибло. Побегут и они.
– Побегут?
– Непременно. Проклиная день и час рождения своего, день и час своего супостатства.
– Исполнится ли? – с сомнениями покачал головой старик.
– Истинно так! – твердо, будто такой исход зависел от него лично и он за него ручался, сказал отец Поликарп. Свеча в движении сквозняка горела в его руке высоким пламенем, как бы подтверждая решительную веру священника.
– Спасибо за слова такие, – сказал старик.
Он еще помедлил малость у двери, как будто набираясь чего-то в запас перед своей дорогой во тьму ночи, затем протянул руку, отворил дверь.
– Людей жалко, людей извели… – плача, сказал старик. – Сердце от горя рвется…
– Горя много, – подтвердил священник. – Одно сейчас: духом не пасть. Апостолов наших помнить – как они говорили народу в бедах: крепитесь и мужайтесь! Неправедно взявший меч – от меча и погибнет!
Тьма наружи приобрела уже чернильную густоту. Выйдя, старик, после блеска свечи, оставшегося в его глазах, поначалу ничего не различал перед собой. Затем зрение его освоилось, он увидел кусты и деревья близкого кладбища, столбы с оборванно повисшей проволокой. Он пошел на них и ступил на дорогу с глубокими колеями в замерзшей грязи.
Кто-то ехал по этой дороге ему навстречу на телеге. Она катилась, гулко гремя колесами по твердым колчам, слышались голоса нескольких людей, которые в ней сидели и громко переговаривались. Кто мог так бесстрашно греметь телегой, во всю силу голосов, даже весело, перекликаться в просторе истерзанной, ограбленной, подавленно молчащей земли? Скорее всего, это ехали полицаи, которых все боятся.
Старик поспешно отступил с дороги в сторону, укрылся за столб.
Телега, дребезжа и звякая железом, темным пятном прогремела мимо. Тьма не дала разглядеть, сколько на ней человек, как они одеты, чем вооружены.
Старик проводил ее слухом и, когда шум ее движения отдалился, выбрался на дорогу и опять побрел по ней мелкими, слабосильными шажками, помогая себе палкой.
Он шел, не ведая, куда тянется дорога, куда может она его привести, зная только одно: надо поскорее найти себе ночлег, пока еще не скорчил его мороз и есть еще у него малая толика сил. В каком-нибудь совсем безлюдном месте, чтобы никто не понес из-за него наказания, – как ночевал он прежние ночи. Они были тоже неласковы, холодны, но все же не так, не по-зимнему…
Он ждал, что набредет на брошенное пепелище – остатки какого-нибудь небольшого хутора с глинобитными хлевушками или сараями. Или на полевую ферму с каким-нибудь закутком, который его укроет от стужи, и он перетерпит в нем долгую ночь.
Но версты оставались позади, а никаких строений не попадалось, лишь пустые снежные поля, закутанные тьмой, простирались по обе стороны от дороги.
Наконец глаза его что-то приметили. Это оказался стожок соломы, одетый пластом снега с той стороны, откуда весь день несло его ветром.
Силы старика были на исходе, он уже не мог идти дальше, искать убежище понадежней. Постояв в раздумье у стожка, сгорбившись и дрожа под своим брезентовым плащом, задубелым от мороза, чем дальше в ночь, тем все сильнее забиравшим, старик стал раскапывать солому с подветренной стороны, устраивая себе в ней логово. Солома была жесткая, колкая, старик дергал ее пучками, углубляясь в стог, заваливая надерганными охапками вход в свою нору.
Внутри стога было тихо и покойно. Старику, разогретому своей работой, даже показалось – тепло. Но это было обманчивое чувство, оно продолжалось совсем недолго. Едва старик лег, сжавшись комком, подтянув к груди колени, он тут же почувствовал холод, идущий от промороженной соломы и снизу, от близкой земли. Холод охватывал его клещами со всех сторон, с ним не могло совладать слабое тепло его тощего стариковского тела, медленной его крови. Окружающий холод постепенно пересиливал, все глубже забираясь в старика. Первыми стали стыть, терять чувствительность ноги в мешковинных портянках и галошах, потом спина и плечи, кисти рук, хотя они были прижаты к груди. Старик чувствовал, как убывает, гаснет внутри него тепло, замедляется и без того вялая кровь. Он понимал, надо вылезти из стога, разогреть себя быстрыми движениями и идти дальше, в надежде на лучший приют, но энергии уже не было ни на что, а сознание погружалось в какую-то непреодолимую, сладкую дрему, которую не хотелось и невозможно было прервать…