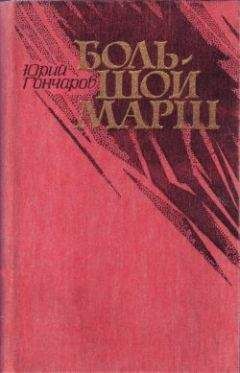– И ходят? – спросил старик, но почти без интереса. Его нисколько не расшевелило, не затронуло сообщение о попе, устроенной им церкви.
– Кой-кто ходит, – сказал с печи хозяин. – Отводит народ душу. Сходи, глянь. В третьем доме от моего поп этот квартирует. Он тебе откроет. Он всем открывает, кто бы ни пришел, в урочный час, неурочный. Хоть ночью. Отец Поликарп его зовут. Нездешний он, откуда-то. Старый уже, постарше меня годов на десять, а то и пятнадцать… Поминанья читает. Бабы ему похоронки носят, кто раньше получил, а он по этим бумажкам служит… Вроде – поп настоящий, того еще времени. Так он всем говорит. А там – кто знает, как его проверишь. Может – просто насобачился где-то молитвам, кормится теперь поповством своим. Сейчас ведь всяк извертается, как только может. Люди ему харчишек несут. А кто не дает – ничего, не обижается, не прогоняет… Верно, зайди, покрестись на иконы. Душе легче станет. Глядишь, может, и помощь тебе выйдет. Это ведь до сих пор дело темное, бог, есть он, нет. А коли нет – так что там? Что-то же все ж таки над нами есть, не один же воздух пустой…
– Я от этих делов давно отшел, – сказал старик, зябко поводя под плащом плечами. За все время в избе он нисколько не согрелся. В ней и нельзя было согреться, а хозяин ее не замерзал только потому, что на нем были ватные штаны и овчинная безрукавка поверх нескольких рубах. – Да и не след мне в религию вдаваться, – подумав, добавил старик с серьезностью. – Сын у меня партийный, он бы не одобрил.
– А я ходил, – признался хозяин. – За сынов своих помолился. А они у меня оба комсомольцы. Ничего, им это не во вред. А я вроде бы им помощь сделал. Что я еще могу? Я еще с гражданской инвалид, у меня спина осколком перебитая. Воевать совсем негож. А то бы пошел сынам на подмогу.
Хозяин замолк, скорбя о такой своей доле – лишь сидеть на печке и безучастно ждать в стороне от своих сыновей. В избе опять потянулась долгая, унылая тишина. Качался маятник старых, засиженных мухами ходиков, тикали колесики, отмеривая время. Оно куда-то бежало в своем извечном движении, что-то несло, таило впереди, какие-то новые события, перемены. Какие? Для старика тиканье часов означало только одно: надо подниматься, уходить. В избе оставаться нельзя, хозяин не оставит, это запрещено тем, что написано на столбах с немецкими приказами, расставленными у каждой деревни.
Хозяину, видно, ходики напоминали о том же. Он смущенно пошевелился на печи, сказал, показывая старику и видом своим, и голосом, что не говорил бы этого, коли бы не закон, что ими обоими правит:
– Ты бы шел, пора уже тебе… А то скоро полицаи с обходом пойдут. Они всегда под вечер являются. Бывает, и ночью. Да не один даже раз. Застанут в хате – это нам обоим каюк. Чужих не велено за порог пущать. А если кто вошел – так сразу же беги, старосте докладай…
– Я понимаю, – сказал старик, выпрямляясь.
Он накинул на плечо лямку своей тощей сумы, взял прислоненную к стене палку.
– Ну – прощевай! Спасибо, что дозволил зайти, – сказал он хозяину избы.
Старик благодарил искренне, у него действительно было доброе чувство на сердце к немытому, заросшему, хворому человеку на холодной печи. Мог бы и не пустить, и не разговаривать так – открыто и с душою, а сразу же прогнать. Старик встречал и такое в своих блужданиях. Он не обижался. Вместо обиды он жалел прогонявших его людей: не сами ведь они это, а страх, каким запугали их немцы, это он его гонит, страх этот, это немцы гонят его…
Старик вышел наружу. Сухой редкий снежок все так же порошил из низкой облачной пелены, закрывавшей небо, добавлялся к тому, что уже устилал землю. Ноги старика ступали в молодой снег беззвучно, как в козий пух, но когда на пути под снегом попадались замерзшие лужицы, их ледок хрустко и звонко потрескивал в тишине на всю пустынную, погружающуюся в синеватый сумрак улицу. Никаких огней не светилось по окнам, то ли людям нечего было зажигать, то ли они намеренно не зажигали огня, чтобы не возбуждать чужого внимания. Лишь в одном доме слабо желтело за оконной наледью. Это был тот самый дом, в котором, по словам человека на печи, поместился пришлый поп.
Старик своей медленной усталой поступью прошел мимо, но что-то неясное тянуло его зайти, поглядеть на попа. Он остановился, постоял в нерешительности, двинулся было дальше, но, сделав несколько шагов, повернул назад.
В избе, в которой желтело оконце, находилось несколько женщин. Одна, пожилая, была хозяйкой, другие, такого же и помоложе возраста, – гости. Эти женщины сидели на лавке возле двери, одетые, в платках, – как пришли. На столе в блюдечке с каким-то маслом светился каганец, а у края стола сидел мужчина с белой бородой, в черном пиджаке, стеганых брюках, кирзовых сапогах, ел мелкую картошку, счищая с нее кожуру и макая в соль, насыпанную в деревянную ложку.
Вошедший старик догадался, что седобородый, в кирзовых сапогах, это и есть отец Поликарп, а картошка, которую он жует, приношение ему этих женщин на лавке, – с темными, запавшими глазами. А добыта эта картошка, вероятно, на том же самом десять раз перекопанном колхозном поле, куда пошла жена хозяина избы, в которой старик грелся. Вглядываясь в попа, старик про себя также отметил, что кроме картошки и соли ничего больше нет на столе перед ним, ни крошки хлеба, даже намека на то, что он был, лежал, да поп уже съел его. Значит, совсем нет хлеба в этой деревне; было бы хоть чуть – уж попу-то женщины не пожалели бы куска, принесли.
– Здравствуйте! – глухо, смущаясь, проговорил старик всем, стаскивая с головы фуражку и кланяясь. Глаза его заслезились, замигали от острого, точечного язычка пламени, трепетавшего на краю блюдца.
– Тебе что, старый? – спросила хозяйка избы – в солдатском ватнике, темном платке, больших мужских валенках. Она сгребала в устье печи в кучку жар, оставшийся от варки картошки, чтобы он сберегся подольше. – Притворяй плотней дверь-то, и так стынем…
– К батюшке я… – проговорил старик с обнаженной головой. – Вроде здесь он проживает…
– Вот он, отец Поликарп, – показала движением головы и глаз хозяйка. – Ты что хотел-то?
– Извиняйте, что не вовремя… – с еще большим смущением сказал старик, переминаясь у порога. – Просто так я. Поглядеть.
– Гляди, – сказал седобородый дружелюбно. Появление старика нисколько не перебило ему еду, он продолжал так же спокойно и не спеша жевать картошку.
Старик, не спуская с отца Поликарпа глаз, неловко еще раз поклонился, – теперь уже только ему одному.
– А что ты, собственно, хотел во мне увидеть? – спросил мужчина, сохраняя свое дружелюбие, но при этом как бы не совсем понимая старика; должно быть, хотел разгадать сам – кто это перед ним, с чем пришел. – Если как человек, – сказал он, продолжая, – так я такой же самый, как прочие… У меня даже имя родительское совсем простое, обыкновенное – Поликарп Васильевич…
Какое-то затруднение владело стариком.
– А вы, извиняйте… – проговорил он несмело. – Интересно мне знать… – Он замялся, ища слов, которые бы не обидели постояльца. – Священник вы настоящий, в сане, или – так, по обстоятельствам?
– Народ мне верит, а это – главное. Значит, в сане. А вообще – настоящий, – сказал мужчина. Глаза его глядели ясно и прямо, не тая чего-либо скрытого. Он взял из миски еще одну картофелину, покатал в пальцах, остужая, стал сдирать кожуру. – Рукоположен преосвященным Филаретом в одна тысяча восемьсот девяносто девятом году.
– Девять лет мне было, – произнесла хозяйка. – С восемьсот девяностого я.
– А документов на это не имею, показать не могу, – продолжал постоялец, как бы заранее предупреждая на тот случай, если его слов оказалось для старика мало и он повел бы свои расспросы дальше. Голос его был спокойный, ровный; должно быть, про документы свои ему приходилось объяснять часто, он полностью к этому привык и такие объяснения его нисколько не обижали. – Было, все было, да ничего не стало, – подчеркнуто сказал он через короткое промедление. – Имею одно слово мое. Можно ему верить, можно не верить, настаивать на сем не могу, это уж кому как пожелается. У кого как душа лежит.
– Как же не верить! – в некотором даже испуге и в готовности дать отпор, если бы вдруг нашлось обратное мнение, воскликнула хозяйка. – Для чего бы человеку такой обман на себя брать? Ни один обман не прощается, а уж такой – это и перед людьми, и перед господом грех страшный…
Ее лицо, которому платок, туго облегавший голову, оставлял узкую щель, было затемнено, света каганца у печи не хватало, чтобы сделать его видным, но глаза выступали и во мраке, блестели, и выражение их было различимо: в них, будто глубокая внутренняя болезнь, неостановимая, изо дня в день мучающая лихорадка, тлела прочно утвердившаяся скорбь, – та, что сразу же разлилась по женским глазам и лицам, как началась война, понесли по домам повестки, а вскоре – и другие бумажки, похоронные известия на сыновей, мужьев, братьев. Такая же печать лежала на лицах и остальных женщин, тех, что молча сидели на лавке, но у хозяйки ее выражение было особенно резким, полностью подавлявшим в ее лице всё. Вероятно, были на то причины, какая-то своя особая, отличающая ее от других женщин, судьба.