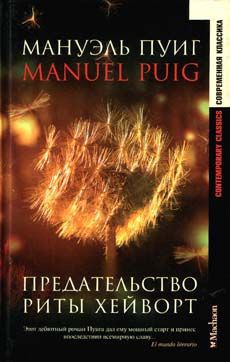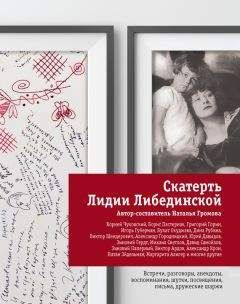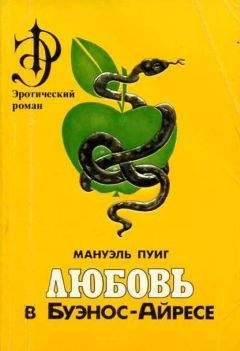Пусть только Коломбо попробует не прийти на ужин, дам пинка под зад, чтобы улетел, чего он выпендрежничает? Если не придет, значит, спер бутерброд в станционном буфете или его угостил какой-нибудь бильярдник. Он у меня за это поплатится.
XII. Дневник Эстер. 1947 год
Воскресенье, 7-е. – Мне бы радоваться, но я не могу: печаль, легкая и тихая, закрадывается в мою грудь, чтобы свить там гнездо. Не она ли это в умирающем свете воскресных сумерек? Уходит воскресенье, унося золотые надежды, надежды несбывшиеся… к вечеру они тускнеют, как моя латунная брошка. «Э» от Эстер, эту букву я ношу на груди. «Э» также и Эсперанса – надежда? Когда я купила брошь, она сияла золотом, а теперь у меня осталась лишь эта латунная буква, приколотая к сердцу, она словно дверь в самую душу, «Эстер!» – зовут меня с нежностью, и я, как дурочка, отворяю на любой голос? искренний и ласковый? или притворный и коварный?
Ночь опустилась над предместьем, так же как и над самой аристократической улицей нашей столицы, для всех зашло солнце – одна из немногих отрад бедняка. Учебник геометрии я даже не раскрыла, а могла бы позаниматься до ужина, Эстер… Эстер… не пойму я тебя, твоя сестра так добра, что приготовила ужин, уходя в кино, твой маленький племянник просто ангел, с ним никаких хлопот, бедненький, ах, если б я могла поскорее стать врачом, первым делом купила бы ему велосипед, но пока я кончу школу, и еще семь лет в университете… бедный малыш. Сидит себе тихонько на тротуаре, ждет, когда соседский мальчик сделает четыре больших круга на велосипеде. Через каждые четыре круга тот дает ему разок прокатиться. Ничего не поделаешь… если родился бедняком, а у его тети разве был велосипед? – не довелось нам, не было у нас велосипеда, но неудачи скоро кончатся, Дардито, ведь твоей тете необыкновенно повезло, именно ее отметил Бог среди всех учеников школы, шумной и тесной школы нашего предместья, окруженного зарослями бурьяна. Бросила бы карандаш и повела тебя туда, через пустырь, напрямик (знаешь, мне с тобой не страшно, ты уже совсем мужчина), мы пройдем по узкой тропинке, огибая крапиву, а потом перепрыгнем через изгородь, и ты пролезешь между колючей проволокой, пересечем железную дорогу и выйдем к станции, и там, напротив, стоит школа – кузница людей будущего. «Скромная ученица нашей школы, являющая собой образец прилежания, товарищества, опрятности и посещаемости, не пропустившая в этом дождливом и ненастном году ни одного дня занятий, – учащаяся Эстер Кастаньо награждается стипендией колледжа имени Джорджа Вашингтона, который находится в соседнем городке Мерло» – директриса вошла в наш шестой класс и назвала ту, что удостоилась стипендии-. И будет учиться в известном колледже для богатых.
Да, у моих детей будет велосипед, пусть у нас его и не было. И что же? Разве я поехала сегодня в центр? Нет, я пришла к тебе, Дардито, на все воскресенье, чтобы немного отвлечься… в пяти кварталах от дома. И мы хорошо провели день, хоть и остались одни-одинешеньки, твоя мама ушла на весь вечер в кино, а папа отправился по делам в комитет. Плутишка, если бы не ты, я пошла бы с ним, но разве я могла оставить тебя одного?
Лаурита и Грасиела – богатые девочки, они, конечно, поехали в центр, как и задумали, в кино на полчетвертого, и не на какую-нибудь программу из трех фильмов, и даже не из двух, нет! – фильм всего один, это премьера, билеты очень дорогие, он кончается без пятнадцати пять, и они успеют потратить еще – будто им мало, – пойдут пить кофе с молоком и пирожными. И это все? нет, соплячки, вы бы лучше научились подтираться, а то, может, не умеете, так это еще не все, в полшестого или в шесть они пойдут слушать джаз-банд «Санта-Анита» в «Адлоне», «Адлон», «Адлон», «Адлон»! – что это за пресловутый «Адлон»? Касальс говорит: «в это кафе ходят все девочки и мальчики, там они садятся вместе и пьют разноцветные коктейли; „Весна“ – это ягодный сок с чем-то крепким». Ну и где же ваш хваленый «Адлон»? а то я прошла всю улицу с роскошными магазинами, про которую говорил Касальс, и ничего не нашла? Он мне объяснил так: «это напротив большого ювелирного магазина, только не со стороны серебряных канделябров, а прямо против того места, где браслеты, кольца и всё из золота, и за витринами с мехами будет дверь в „Адлон“. Но мне не удалось ее найти. И вообще, чего сестра так торопилась к этим своим простыням, мы все равно бы успели на распродажу. Там за бесценок продавали белые простыни, с голубой вышивкой наволочки, и такая же вышивка на верхней простыне, и все, ничего там больше не было, да и что еще нужно?
Понедельник, 8-е. – Так я и знала! Что-то предвещало это, недаром рука судьбы сжимала мне вчера горло, чуть не задушила – не рука даже, когтистая лапа. Наш директор уходит? по болезни? правда или нет? какая гнусность кроется за всем этим? Затихший класс писал контрольную, и я не знаю, как удалось мне подавить крик, рвавшийся из самых глубин души, оттуда, где никогда не дремлет верный страж – моя признательность.
Так бы и крикнула: «мы любим нашего директора! мы не отпустим его!», ах, если бы я могла взволновать этих детей, ведь они не более чем несмышленые дети, которые посмели радоваться из-за того, что нашего директора могут снять, и потому лишь, что иной раз он отчитывал их.
Но кто всем ему обязан – на все для него готов. Однажды старый уважаемый учитель подписал циркулярное письмо, сообщавшее, что годовой стипендии удостоена скромная девочка из простой школы, дочь рабочих; он выразил доверие кому-то совсем незнакомому и этим поставил под угрозу свою блестящую педагогическую карьеру, ведь я могла оказаться позорным пятном в его безупречной биографии. Стипендия на первый год, с последующим продлением на второй (что и случилось), если учащаяся того заслуживает, и на третий, и так год за годом, пока девочка не повзрослеет и не получит аттестат.
Я собиралась сказать маме, но сердце бешено заколотилось, и я не смогла, зачем волновать ее, она помешивала в кастрюльке молоко для меня одной (разве я не бессовестная лентяйка?), как делала это чуть раньше для остальных детишек. Мама, сними пенку, не хочу молоко с пенкой! Оставляет мне пенку, думает, что я ее люблю, что она нужна мне как никому, раз я учусь, а я не люблю пенку! ее никто не любит. В доме Лауриты ее выбрасывают. Противная пенка, что в ней особенного? думаешь, если ее выбросить, мы обеднеем еще больше? ты так думаешь? – ах, сестра поняла бы, наверное, мои муки, а может, и не поняла бы, но вдруг я не смогу учиться дальше, надо кому-нибудь рассказать, все равно просидела целый вечер в четырех стенах, так и не раскрыв книгу, а теперь уже поздно, очень поздно, мама меня убьет, если увидит, что я снимаю рубашку и снова одеваюсь, рискуя простудиться. Вот если бы кто-то взялся меня проводить, обратно может проводить Дардито, но он, должно быть, намаялся и крепко спит. А то бы мигом пробежал назад пять кварталов, быстроногий зайчишка.
Совсем я не занималась и сестре ничего не рассказала, а вдруг мне в этом году не возобновят стипендию? что тогда делать? Никак не пойму, почему по зоологии «5», по математике «4» и по истории «5»? – а потому, что барышня не учится! открывает учебник, запирается, заставляет бедного отца выключить радио… и в тишине, пропитанной запахом похлебки, тихо кипящей час за часом, взгляд скользит по строкам заданного урока, и мысли пускаются в путешествие. Бесцельное, безнадежное путешествие обыкновенной девчонки.
Ну и глупая Грасиела! Думает, я поверю ее россказням, и если бы не звонок на урок, она бы не замолчала. Пообещала завтра на музыке сесть ко мне и все рассказать, я слушала ее вполуха, а она провела стрелку к квадратику на полях конспекта и внутри квадрата написала: «я должна рассказать тебе одну вещь», знаю, знаю, что у нее на уме – один молодой человек, да и остальное мне известно: «он в меня без памяти влюблен, ну а мне он нравится совсем чуть-чуть». Конечно, она думает, раз у отца есть деньги в банке, значит, все в нее влюблены. Что ей ни скажешь – всему верит. Хоть не носится теперь с Адемаром, понятно, что он нравится тут всем девочкам – у него такие ресницы, и глаза черные-пречерные, а волосы светлые, пшеничные, и главное, он совсем взрослый, учится в третьем, а серьезный, как пятиклассник, но… я почти уверена, что Грасиела сейчас думает о человеке, чье имя начинается с «Э». Вернее, мы с Грасиелой думаем об этом «Э». Его грустный взор ищет тихую заводь, чтобы уронить слезу, его грудь – кузнечный горн, закаленный огнем страданий, но там рождается бесценный алмаз и стекает чистая кипящая слеза, слеза мужчины. Давно уже он лишился матери. Адемар же, по-моему, никогда не плакал, он воспитанный, нежный, живется ему, наверное, сладко, как в сахарном домике, и вот, если однажды стены домика рухнут, тогда он заплачет, словно безутешный ребенок; слеза мужчины – это совсем другое.
Странно, что Грасиеле нравится «Э», но в ней нет постоянства. Бедная пустышка. Я заглянула в ее сердце, и там тоже ничего нет: «значит, лысого турнут?» – так выразилась она о трагедии старого учителя. Бедный мой любимый директор.