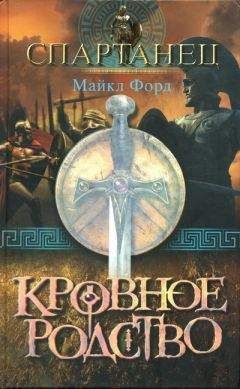А на самом деле всего шесть месяцев. Вечность. Он был такой ясный, свежий, и у него никогда ничего не болело. Она видела их: побывав там, они возвращались назад совсем не такими, какими были раньше.
— Герой, вернувшийся с войны, — сказала она. — Хорошо, если бы так и было!
— Когда нас обучали в лагере штыковому бою, — сказал Адам, — я у стольких мешков с песком и мешков с сеном выпустил кишки наружу, что просто не сосчитать. Нам орали: «Бей этого боша, бей его, коли, пока он тебя не заколол!», и мы как оголтелые набрасывались на мешки с песком, и я приходил буквально в раж, а потом, когда из этого мешка сыпался песок, то — вот честное слово! — чувствовал себя круглым идиотом. Бывало, проснешься ночью и думаешь: «Ну и болван же ты!»
— Да, могу себе это представить! — сказала Миранда. — Такая чушь!
Они медлили, не желая прощаться. Потом, после небольшой паузы, Адам спросил, будто продолжая разговор:
— А вы знаете среднюю продолжительность жизни сапера после того, как он обнаружил мину?
— Должно быть, очень короткая.
— Ровно девять минут, — сказал Адам. — Это я в вашей же газете вычитал неделю назад.
— Накиньте до десяти, тогда я тоже с вами поеду, — сказала Миранда.
— Ни секунды больше, — сказал Адам. — Ровно девять минут. Хотите верьте, хотите нет.
— Будет вам хвалиться, — сказала Миранда. — И кто это мог высчитать?
— Нестроевой солдат, — сказал Адам. — Какой-нибудь рахитик.
Это показалось им обоим очень смешным, они рассмеялись и потянулись друг к другу, и Миранда услышала свой немного визгливый смех. Она вытерла слезы, выступившие на глазах.
— Ну и война! Чуднáя какая-то! — сказала она. — Правда? Как подумаю о ней, так меня смех разбирает.
Адам взял ее руку в свои и потянул кончики перчаток на пальцах и вдохнул их запах.
— Какие у вас хорошие духи, — сказал он. — И сколько вы их на себя вылили. Мне нравится, когда волосы и перчатки сильно надушены, — сказал он, снова вдохнув носом.
— Наверно, перестаралась, — сказала она. — У меня сегодня ни обоняния, ни слуха, ни зрения. Должно быть, сильная простуда.
— Не хворайте, — сказал Адам. — Мой отпуск подходит к концу, а он будет последним, самым последним.
Она шевельнула пальцами, когда он потянул за кончики перчаток, и повернула руки ладонями вверх, точно они стали теперь какими-то необычными, новыми, драгоценными, и сразу смутилась и замолчала. Он нравился ей, и даже больше чем просто нравился, но об этом и думать было нельзя, потому что он не для нее и не для какой-нибудь другой женщины, он уже за пределами всего личного, он без своего ведома отдан в распоряжение смерти. Она отняла у него свои руки.
— До свидания, — наконец сказала она. — До вечера.
Она взбежала по лестнице и на последней ступеньке оглянулась. Он все еще смотрел ей вслед и, не улыбнувшись, поднял руку. Миранде редко приходилось видеть, чтобы человек оглядывался после прощания. Самой ей иногда случалось проводить взглядом того, с кем она только что разговаривала, точно это могло смягчить слишком резкий и слишком внезапный обрыв даже самого мимолетного общения. Но люди уже спешили прочь, выражение у них сразу менялось, становилось сосредоточенным, переключаясь на следующую остановку, и мысли уже были заняты каким-нибудь следующим делом, следующей встречей. Адам стоял, точно ожидая, что она оглянется, и под его хмуро насупленными бровями темнели казавшиеся очень черными глаза.
Она сидела за своим столом, не сняв ни жакета, ни шапочки, вскрывала конверты и делала вид, будто читает письма. На столе у нее сегодня сидели только спортивный репортер Чак Раунсиваль и «О чем толкуют в нашем Горди», но их присутствие было ей приятно. При желании она тоже могла сидеть у них на столе. Горди и Чак вели между собой разговор.
— Ходят слухи, — сказала Горди, — будто эти микробы завезло к нам в Бостон немецкое судно, конечно закамуфлированное. Пришло оно не под своим флагом. Правда, нелепость?
— Может, это была подводная лодка, — сказал Чак. — Поднялась ночью со дна морского и пробралась к нам. Так и звучит-то лучше.
— Безусловно, — сказала Горди. — В деталях всегда какая-нибудь неувязка… Микробы будто бы распылили по городу — началось, как вам известно, в Бостоне, — и будто бы кто-то видел, как над бостонской гаванью поднялось странное густое, маслянистое облако и медленно разошлось над тем районом. Видела все это, кажется, какая-то старушка.
— А кто же еще может такое увидеть? — сказал Чак.
— Я вычитала это в нью-йоркской газете, — сказала Горди. — Значит, все правда.
Чак и Миранда так громко захохотали, что Билл вскочил с места и негодующе посмотрел на них.
— Горди все еще читает газеты, — пояснил Чак.
— А что тут смешного? — сказал Билл, снова сел на место и, насупив брови, уткнулся в бумаги, кучей лежавшие у него на столе.
— Это облако, наверно, видел кто-нибудь из нестроевых, — сказала Миранда.
— Разумеется, — сказала Горди.
— Может быть, член комиссии Лоска, — сказала Миранда.
— Или спаситель Монса, — сказал Чак. — А то кто-нибудь из государственных служащих.
Миранде не хотелось ни говорить, ни слушать их, ей хотелось хотя бы пять минут посидеть и подумать об Адаме, подумать о нем по-настоящему, но времени на это не было. Она увидела его впервые десять дней назад, и с тех пор они только и делали, что вместе перебегали улицы, снуя между грузовиками, автомобилями, ручными тележками и подводами, и он ждал ее в подъездах и в маленьких ресторанчиках, где пахло прогорклым маслом, и ужинали и танцевали под назойливое завыванье и грохот джаза, высиживали в театриках скучнейшие спектакли, потому что Миранде надо было писать рецензии на них. Однажды они поехали в горы и, оставив машину, поднялись вверх по каменистой тропинке, вышли на плоский выступ и сели там, глядя, как меняется освещение в долине, ландшафт которой, сказала Миранда, будто вымышлен.
— Веровать в вымыслы совершенно не обязательно, но поэтичность во всем этом несомненная, — сказала она Адаму.
Они сидели очень тихо, прислонившись друг к другу, и смотрели на долину. Два воскресенья подряд ходили в геологический музей и оба как зачарованные разглядывали обломки метеоритов, образцы горных пород, окаменелые бивни и окаменелую древесину, индейские стрелы, жильные вкрапления золота и серебра.
— Подумать только! Ведь в старину золотоискатели намывали свои богатства, сидя у ручейков и орудуя маленькими лотками! — сказал Адам. — И в недрах земли было вот все это…
И он стал рассказывать ей, что больше всего любит то, что требует кропотливого труда: любит аэропланы, и разные машины, и резьбу по дереву и камню. Специальных знаний в этих областях у него не было, но такие вещи он понимает и ценит. Признался, что ни одной книжки не может дочитать до конца, кроме учебных пособий по механике; чтение для него просто мука мученическая; жалел, что не привел сюда машину, ему и в голову не пришло, что автомобиль здесь может понадобиться; он любит водить машину, Миранда ему, наверно, не поверит, сколько миль он может проделать за день… Показывал ей свои фотографии: вот он за рулем «родстера», вот в яхте — такой вольный, весь на ветру, весь из одних углов, выбирает канаты; он пошел бы в авиацию, но стоило ему только заикнуться об этом, как мать закатывала истерику. Не понимает, что воздушный бой не так опасен, как саперные работы на земле в ночное время. Но объяснять ей это он, конечно, не стал, потому что она не представляла себе, что такое служба сапера. И вот он посиживает на плато высотой в милю, и тут негде спустить яхту на воду, и автомобиль его стоит дома, а то они получили бы массу удовольствия. Миранда понимала, что Адам рассказывает ей, какой он, когда вся его техника при нем. Но у нее было такое чувство, что она и так прекрасно его знает, и ей хотелось сказать ему, что если он думает, будто остался дома вместе со своей яхтой и своим автомобилем, то это неверно. Телефоны звонили не переставая. Билл кричал на кого-то, кто твердил: «Да вы послушайте… послушайте!» Но слушать его, конечно, Билл не собирался. Старик Гиббонс взывал в отчаянии: «Джорш! Джорш!»
— Тем не менее, — говорила Горди своим самым добродетельным, самым патриотическим голоском, — работа в бараках во Франции — это здорово придумано, и мы все должны принять в этом участие, даже если нас там и видеть не желают.
У Горди это хорошо получается. «Полюбуйтесь на нее!» — подумала Миранда, вспомнив розовый свитер и напряженное, бунтарское выражение лица Горди в раздевалке. Сейчас она была сама непосредственность, само благородство, она готова принести себя в жертву на алтарь отечества.
— В конце концов, — сказала Горди, — я пою, и танцевать умею вполне сносно для эстрады, и письма могла бы писать под их диктовку, а прижмет, так и санитарную машину буду водить. На «форде» сколько лет ездила.