Пока они выгружали у дома чемоданы, подъехала машина Спартака — в ней была Фирангиз. Зауру было приятно, что она приехала. Спартак помог поднять чемоданы на девятый этаж. Зивяр-ханум открыла двери, и они все вчетвером вошли в квартиру, обставленную мебелью, подаренной Спартаком. Зивяр-ханум не отказала себе в удовольствии повелительно указать Спартаку, как, впрочем, и Зауру, куда ставить чемоданы. Она чувствовала себя хозяйкой в доме своего сына и еще больше хотела, чтобы это чувствовали другие.
— Я пойду, — сказал Спартак. Он был каким-то тихим, присмиревшим и даже, что было удивительнее всего, печальным.
Заур проводил его до дверей и вышел на лестничную площадку. Он чувствовал, что Спартак хочет о чем-то сказать ему, и почти наверняка знал — о чем: Спартак, несомненно, тоже втянут в отношения взаимной вражды и теперь должен, может помимо своей воли, передать Зауру какие-то условия или угрозы — в общем, какие-то слова своих родителей. И Заур догадывался, как ему не хочется этого делать, если даже в его вечно ухмыляющихся нагловатых глазах застыла печаль. Стоя рядом с ним в ожидании лифта, Заур разглядел ее совершенно отчетливо. Лифт наконец поднялся, раскрылись двери, и Спартак, решившись, сказал прерывающимся голосом:
— Я хотел тебе сказать… Тахмина… умерла… — Он уже вошел в лифт и добавил: — Цирроз печени. Сгорела за двадцать дней…
Он никогда не думал, что улицы, дома могут причинять такую боль. Улицы, дома, машины.
Он свернул к скверу, и направо от сквера в том самом месте, где он ждал Тахмину в июньский день — в день их первого свидания, — стоял «Москвич» точно такого же цвета, как и старая машина Заура, и острая боль снова пронзила его. Он вспомнил все — и то, как ждал ее здесь, барабаня пальцами по рулю, и вкус сигарет, которые курил в тот день, и голос Тахмины, когда она наконец появилась в красном платье с белыми пуговицами и с сумкой, в которой был коньяк «Камю», специально для него. И точно такую же боль, как эта машина, причинил ему тротуар, на котором когда-то ночью стояла «Волга» Спартака, а он проткнул шину. И эта телефонная будка, откуда он звонил Тахмине впервые, глядя на ее полуосвещенные окна, и телефон не отвечал, а он мучился, но потом оказалось, что телефон отключен, она не заплатила вовремя. А вот и остановка, где они садились в восьмой троллейбус и добирались до его и ее работы: сперва выходил он и махал ей с тротуара, а она отвечала ему из окна троллейбуса, посылая воздушные поцелуи и отбрасывая его любимым жестом волосы со лба… После того как Спартак сообщил ему о смерти Тах-мины и, переминаясь с ноги на ногу, несколько минут постоял в молчании, потому что не было слов, кончились все слова и у Спартака и у него, Заура, и когда наконец Спартак нажал кнопку лифта, двери закрылись и лифт стал спускаться вниз, Заур вошел в квартиру, почему-то переставил чемоданы из спальни в переднюю, а из передней в столовую, а потом, ничего не сказав ни матери, ни жене, вышел и спустился по лестнице, не на лифте, купил в киоске на углу сигареты, спички в магазине и долго шел по улице до дома Тахмины. И вошел в подъезд ее дома, и стал подниматься по таким знакомым ступенькам, и только тут до конца осознал, что Тахмины больше нет и он ее никогда больше не увидит… И почему-то не выходил у него из головы Спартак, и Заур подумал о том, что только сейчас наконец раскроется тайна и он узнает наверняка, что никогда у нее ничего со Спартаком и не было и все просто его, Заура, фантазия. И почему-то он вдруг вспомнил, как она затащила его на дачу Спартака и сказала, что есть причина, которую он, Заур, никогда не узнает и которая привела их на эту дачу. И, возможно, эту причину он узнает именно сейчас, когда все уже непоправимо поздно, и выяснится, что его подозрения лишь нелепое недоразумение, и в результате он окажется виноватым и узнает, что она ни в чем не повинна, и будет всю жизнь мучиться своей виной, и в этом будет его горестное счастье.
Лестница на втором этаже оказалась запруженной людьми, которые, пыхтя и кряхтя, поднимали заколоченный в ящик массивный шкаф, человек в пальто с меховым воротником — видимо, хозяин шкафа — давал им указания:
— Направо поворачивайте, так не пройдет, говорю я вам, направо, берите направо! — Потом он обратился к Зауру: — Вы хотите пройти? — Потом снова к носильщикам: — Дайте дорогу, пусть человек пройдет.
Заур протиснулся между шкафом и человеком в пальто, который снова стал командовать, поднялся на третий этаж — двери Тахмины были открыты настежь, и на дверях блестела табличка: «Заслуженный рационализатор Г. Керимов».
В дверном проеме стояла взлохмаченная женщина в халате, по всей видимости, жена заслуженного рационализатора, и с волнением ожидала шкаф и человека с меховым воротником, который, очевидно, и был Г. Керимовым. Заур невольно глянул в глубину квартиры, и сердце его защемило: виднелась комната Тахмины почти пустая, без ее фотографий, без старинных стенных часов, без карликового инжирового дерева — подарка альпинистов, но с теми же самыми обоями. Заур резко повернулся к дверям напротив — собственно, сюда он и пришел — и нажал на кнопку звонка.
Послышался детский голос, сердитый окрик женщины, обращенный к ребенку, затем Медина открыла дверь.
— Заур… — сказала Медина, подбородок ее задрожал. — Заур, — повторила она и заплакала.
Откуда-то из глубины к самому горлу Заура подкатил комок и застрял. Он молча стоял перед Мединой, не в состоянии ни плакать, ни говорить. Из открытой двери комнаты Медины виднелся экран телевизора, и он также пронзил Заура острой болью, и Заур подумал, что, прожив почти месяц в соседстве с Мединой, ни разу не был у нее, как, оказывается, ни разу не видел ее мальчика, который стоял в дверях комнаты и, глядя на мать, громко заревел.
— Заходи, — сказала Медина, вытирая глаза и всхлипывая.
Заур вошел. Медина суетливо увела мальчика в ванную. Послышалось журчание воды из крана, успокаивающие слова Медины. Заур тупо смотрел на непроницаемый экран старенького телевизора, на жалкий уют небольшой комнаты — жилища человека, еле сводящего концы с концами. Мальчик успокоился, и Медина, вытирая мокрые руки, вошла в комнату, села напротив Заура.
Заур закурил.
— Когда ты приехал? — спросила, она. Она обращалась теперь к Зауру на «ты», как будто общее горе сблизило их, сделало близкими людьми.
— Сегодня, — ответил Заур, — полчаса назад.
— Мама, когда мы пойдем? — спросил мальчик.
— Пойдем, пойдем, видишь, дядя в гости к нам пришел, — сказала Медина и добавила, обращаясь к Зауру:
— С утра ноет. Обещала его в кино сводить. Да разве настроение у меня для кино?
— Когда мы пойдем? — канючил мальчик.
— Скоро, скоро, — сказала Медина, — иди поиграй в коридоре с мячиком. Иди, я сейчас приду.
Мальчик неохотно вышел, и Медина сказала:
— Вот так, Зауричек. Нет больше нашей Тахмины, — и снова заплакала.
— Мне сообщил Спартак, — сказал он, пытаясь проглотить комок, стоявший в горле, и подумал, что вот сейчас, когда он упомянул о Спартаке, Медина раскроет тайну, которую из всех живых теперь, может быть, знает она одна. И тогда все выяснится, и ему будет в сто раз хуже от того, что он так ошибся. При этом он хорошо знал, что Медина ничего ему не скажет и, возможно, никакой тайны не знает, ибо, наверное, ее и нет, тайны, и никакого недоразумения нет, ничего нет, и все было так, как было, только вот нет Тахмины.
— Цирроз печени, сгорела за двадцать дней, — слово в слово повторила Медина Спартака и начала рассказывать. Она рассказывала о ее болезни со всеми подробностями, ничего не скрывая, точно и жестко, и о ее физических муках, и о катетерах, и об отеках, и о том, как Тахмина не хотела умирать. До болезни она не раз говорила, что хотела бы умереть, но это были просто слова, а когда болезнь скрутила ее по-настоящему и когда она, уже в больнице, поняла, что умирает, ей так отчаянно хотелось жить… И она до конца держалась мужественно.
— Мама, когда мы пойдем в кино? — снова затянул мальчик.
— Сейчас, сейчас, мой хороший, сейчас мы пойдем.
До последнего дня ее навещал Мухтар, и Манаф приходил. Какой он, оказывается, хороший человек, Манаф, все расходы по похоронам взял на себя. И поминки устроил на третий и седьмой день. Вот только сороковой день негде устроить — квартиру-то обменяли. Инженер какой-то переехал с женой, и у них куча детей.
— Мама, ну пойдем!
— Сейчас, сейчас, сынок, вот я немножко с дядей поговорю, и мы пойдем.
Заур встал, и они говорили уже стоя.
— Ты бы ее не узнал, Зауричек, так она похудела. Ей было очень больно, но она все старалась шутить. «Зато никто не увидит меня старой и некрасивой», — говорила. Лечил ее такой симпатичный врач, совсем молодой парень. За день до смерти она сказала: «Жаль, что появлюсь перед таким симпатичным парнем мертвой». Все шутила: «Голой мне еще приходилось появляться перед мужиком, а вот мертвой — в первый раз». — Садись, Заур, — сказала Медина. — Кажется, он там нашел себе занятие. Я сейчас тебе чаю налью.
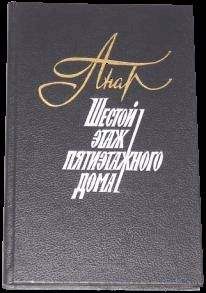


![Владимир Царицын - Зов Орианы. Книга первая. В паутине Экора. [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/101705/101705.jpg)

