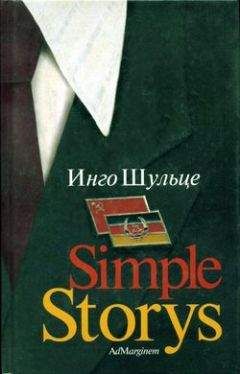Я бы охотно рассказал ей что-нибудь такое, что настроило бы ее на другой лад. Но только мне не приходит в голову ничего, подходящего к нашей ситуации. Я смотрю на потолок, где малыш опять преобразился в стальную пружину. И пытаюсь распознать в штукатурке, в ее шероховатостях, очертания, знакомые мне по карте мира. Индия оказывается расположенной напротив Флориды – масштабы, конечно, искажены, но силуэты вполне четкие; ниже угадываются Скандинавия и омываемая Балтийским морем Австралия.
– Помнишь Канделарию?[33] – спрашиваю я. – Эхо пароходной сирены, которое многократно отражалось от уступов гор? И как я каждое утро думал, что новый день наверняка будет дождливым? А на самом деле это просто гора временно заслоняла собой солнце. Помнишь, как по вечерам мы не могли определить, где кончается море и начинается небо – оба были серебристо-серыми, без всяких различий?
– То место называлось не Канделария, – говорит Барбара.
– Как же тогда? – спрашиваю я. И, поскольку она не реагирует, прибегаю к повтору. – А вот я уверен, что место, где мы жили, называлось Канделарией.
Мы с ней теперь спорим по самым пустячным поводам. На прошлой неделе, например, я разбирал свой ящик с носками. Барбара подумала, что я в ходе этой уборки выбросил один из ее специальных «релаксационных носков». Я сказал, что вообще не выкидывал никаких отдельных носков, а только пары – те, которыми я уже годами не пользуюсь, потому что они изношенные, уродливые или застиранные. Но прелесть «релаксационных носков» именно в том, перебила она меня, что они выглядят как старые, хотя на самом деле – новые. Пятнадцать марок стоит одна пара. Я спросил, что это вообще такое – «релаксационные носки». А она в ответ: мол, как я могу утверждать, что не выкидывал ее носок, если даже не представляю, о чем идет речь. Я повторил, что выбрасывал носки только парами, а кроме того, уже по одному размеру мог бы догадаться, что носок не мой. Потом в ванной на полочке я обнаружил фирменную наклейку: «Релаксационные носки – БЕЗ (дальше мельче) РЕЗИНОВЫХ НИТЕЙ, ПРИЯТНЫ В НОСКЕ, из высококачественной пряжи, лишенной вредных примесей, экотехнический стандарт – 100». На следующий день я уже хотел было сказать ей, что, раз она не может найти свой носок, то скорее всего его действительно выбросил я, хотя и не представляю себе, как это могло произойти, если только она не положила свои носки к моим. Ведь, между прочим, вещи в шкафу всегда разбирает она. Однако Барбара опередила меня: носок, мол, нашелся. Когда я спросил, почему она мне об этом не сказала, она взглянула на меня с удивлением, будто не понимала, как мне пришло в голову задать такой вопрос, хотя выражение ее лица могло означать и другое: «Я тебе говорила, но ты, как всегда, пропустил это мимо ушей». Как минимум половина возникающих между нами недоразумений объясняется ее обидой на то, что я якобы пропустил что-то мимо ушей, тогда как я мог бы поклясться, что ни о чем таком мы не говорили. Ведь я же не глухой!
Звонит будильник. Я выключаю его. Теперь единственный звук – гул пролетающего где-то над нами вертолета. Наконец я решаюсь.
– Бабс, нам пора вставать.
– Франк, – говорит она. Ее правый локоть нацелен в мою сторону. – Если когда-нибудь вдруг окажется, что это никакой не сон; если человек уже не сможет проснуться; если он за считанные часы состарится и почувствует, что прожил на свете достаточно, что ждал в конце концов тоже более чем достаточно и больше ждать не желает; если он подойдет к окну, выглянет наружу, и ему уже будет все равно, увидит ли кто-нибудь что-нибудь или нет, день ли сейчас или ночь, и он будет знать, что для него уже нет никакой разницы между тем и другим, никакой, – то ведь тогда останется только одно чудо, на которое он еще сможет уповать. Тогда он должен будет прыгнуть вниз.
– Уже семь, – говорю я. – Нам скоро выходить, Бабс, слышишь? – Я приподнимаюсь в постели, сдвигаюсь к ногам кровати, сую ноги в шлепанцы и подхожу к окну. Канал замерз. Во льду торчат голубые, желтые и светло-зеленые пластиковые бутылки, низко свисают ветки ив. Улица на противоположном берегу перегорожена. Поэтому никаких машин не видно. Маклерша нам говорила, что человек въезжает не только в новую квартиру, но и в другую жизнь, где будут другие соседи, другое транспортное сообщение, другой вид из окна.
Я прижимаюсь лбом к стеклу, чтобы увидеть часть улицы перед нашим домом. Улица пуста. Только две сороки напротив меня, на каштановом дереве, перепрыгивают с ветки на ветку. Я пытаюсь сосредоточиться на том, что нам предстоит в ближайшие дни. В субботу театральный бал, в воскресенье к нам на чашечку кофе придет отец Барбары со своей новой подругой.
– Или ты сейчас же звонишь на работу и предупреждаешь своих, что заболела, или немедленно встаешь, – говорю я. – Я оставлю для тебя воду, да? – Барбара не отвечает. Возможно, она меня не услышала.
– Ты останешься со мной? – спрашивает.
– Мне нужно ехать в Эрфурт, – говорю я.
– Я не о том, – говорит она. – Ты останешься со мной в любом случае, какая бы беда ни стряслась?
– Бабс, – говорю я. – А как же иначе?
– И кто тогда будет за тебя голосовать, зная, что у тебя такая жена?
– Боже, – кричу я, – да что ж это? Ты ведь уже проснулась, проснулась!
– Не кричи, – просит Барбара. Она раскидывает руки. Левая теперь свисает с края кровати, и кончики пальцев этой свисающей руки касаются ковра. Наконец я могу заглянуть в глаза Барбары. Она поднимает голову, смотрит на меня и опять откидывается на подушку. Я не знаю, что мне ей сказать, чтобы она встала и пошла в ванную. Не знаю даже, что сейчас должен делать я сам. Сороки улетают. Сперва одна, потом другая. Пару минут еще покачиваются ветки, на которых они только что сидели. А потом уже ничто не шевелится, как на фотографии.
Как Энрико Фридрих получил в подарок бутылку мартини. Он рассказывает Патрику о внезапном появлении и столь же внезапном исчезновении Лидии. И попутно втихую напивается. Патрик молчит, но под конец задает ему кардинальной важности вопрос.
– Эти две женщины, очевидно, раньше где-то встречались, – сказал Энрико, развернул мартини, разгладил подарочную бумагу, как попало сложил ее и выдвинул нижний ящик стола, в котором хранились целлофановые пакеты. – Да ты сто раз фотографировал Франка. Не можешь ты его не знать. – Бумага высовывалась наружу. Энрико затолкал ее поглубже и задвинул ящик. – Помнишь, перед последними выборами в ландтаг он гулял по рынку и всем раздаривал розы. Даже бросил курить, хотя от пристрастия к жвачке так и не отказался. – Рука Энрико соскользнула с завинчивающейся пробки. Он взял кухонное полотенце. Чпок! – и открыл бутылку. – Восхитительный звук. Тебе со льдом?
– Нет, – сказал Патрик. Он читал надписи, накарябанные на обоях, и, чтобы увеличить поле обзора, отодвинул свой стул к самому холодильнику. Энрико наполнил до половины оба стакана.
– Лидия прочитала о каких-то птицах, что им требуется всего пятьдесят часов, чтобы долететь от Аляски до Гавайев. Я б тоже не отказался слетать туда разочек… – Энрико жестом показал, что хочет открыть холодильник. – Я было подумал, что Барбара – член какого-то элитного клуба вроде тех, что раньше назывались «Культурбундом», или «Уранией», или уж не знаю как. Они еще собирали землероек, дохлых землероек. Кроме коршунов никто не смог бы врубиться, что они этим хотели доказать. – Патрик опять придвинулся к холодильнику.
– А я привык так… – сказал Энрико. Он постучал лоточком со льдом о внутреннюю стенку раковины и опрокинул его содержимое себе на ладонь. – Больше двух, конечно, никогда не употребляю. – Почти все кубики упали на груду грязной посуды. Энрико собрал их, высыпал горкой на тарелку и придерживал сверху, пока не поставил на середину деревянного стола. – Вся посуда, которую ты видишь здесь, досталась мне от бабушки.
Патрик долил в свой стакан минералки.
– Ну, будем, – сказал он.
– Будем, – отозвался Энрико и взял с тарелки кубик льда.
– А это что? – спросил Патрик.
– Две пары черных колготок, зубная щетка улучшенной конструкции, маникюрные ножницы, пилочка для ногтей, четыре бумажных платка фирмы «Темпо», использованный проездной билет, две марки и пять пфеннигов. – Энрико щелкнул ногтем по стоявшему между ними стакану. – Это все, что она забыла у меня. – Энрико смотрел мимо Патрика на дом напротив, где в двух окнах уже зажегся свет.
– Франк хотел перейти на «ты» и потому представился как Франк. Думал, наверное, что если он заседает в эрфуртском парламенте, Лидия будет его стесняться. Ну, еще раз твое здоровье, старик. Чокнемся!
Патрик потянулся ему навстречу.
– Представляешь, он постоянно заглядывал ей в рукав. Каждый раз, как она передавала ему какое-то блюдо, норовил туда зыркнуть. На ней было черное платье, с такими широкими… – Он описал дугу примерно в четверть окружности под своей подмышкой. – А потом, направляясь в туалет, выдал: «Вот у кого ноги от шеи растут», – но шепотом. – Энрико повернулся к двери. – Заходи, киска, что там у тебя? Уселся опять здесь, на нас ему посмотреть охота… Я его называю… ну давай! запрыгивай! Я его называю киской! Он во сне храпит. Зато никогда не мурлычет. – Энрико почесал пепельно-рыжему коту под подбородком. – Ты, кстати, заметил, что дни становятся длиннее?