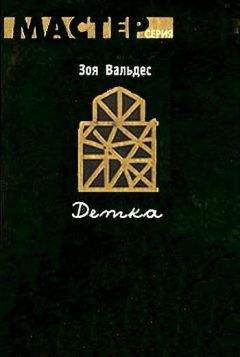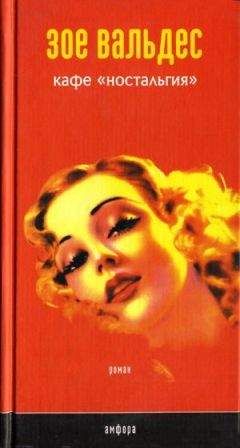Все сдерживают тошноту – никто не может позволить себе такую роскошь. Но Карука Мартинес хочет, чтобы ее вырвало. Она засовывает руку в рот чуть не по локоть, однако ничего не выходит. Кука вспоминает о своей язве и просит глоток чего-нибудь горячего. Да и блевать уже нечем. При таком недоедании пища переваривается мгновенно. Внезапная резь в животе сгибает ее пополам. У двери туалета толпится народ – кто-то еще мечтает погадить, кто-то уже успел.
К счастью, старуха, как святыню, носит в корзинке пакетик, куда можно положить пирожок, пиццу, апельсин, сифилис, да что угодно… Она ищет место, где бы спрятаться от нескромных взглядов. Наконец, пробившись сквозь толпу гостей, она выскакивает за дверь, спускается по лестнице, переходит улицу и, вся в испарине, приближается к воротам кладбища.
– Стой, кто идет? – кричит сторож, надзирающий за могилами.
– Это я, Кука. – От страха голос дрожит и ответ звучит со странным акцентом, будто говорит мексиканка, которую муж хорошенько вытянул хлыстом.
– Если вы туристка, вход – пять баксов, мы не собираемся демонстрировать наших славных покойников бесплатно, чтобы кто ни попадя грел на них руки.
– Послушайте, сеньор, я…
– Какой там сеньор – товарищ, сами знаете, что только тридцать первого декабря и только дикторам позволено желать счастья сеньорам и сеньоритам. А я не хочу потерять работу. Пусть сеньоры империалисты ко мне не суются, мы их не боимся… Так что вы сказали?
– Я сказала, что я кубинка, ой-ой-ой… – Понос не удержать.
– А что вам в такое время делать на кладбище? – сторож принюхивается, недовольно сморщившись.
– Я пришла помолиться о моей покойной матери.
– Не-е-е-т, ну и вонища! Похоже, какой-то любитель гороха выбрался из могилы и, бьюсь об заклад на тухлое яйцо, хорошенько здесь поднасрал. Какой-нибудь призрак-солдафон – их тут много. Всю жизнь жрал только горох и понятия не имел о том, что есть желудочные таблетки. Так и помер, бедняга, с расстройством желудка.
Сказав это, сторож тут же забывает о старухе и, вытащив нож, идет уговаривать неуемного покойника вернуться в могилу.
Вся в дерьме, со слипшимися ляжками Кука находит источник с водой – не святой, а чтоб подмыться. Нашарив в траве, рядом с церковью, кран, она садится на корточки, моет ноги и задницу, пытается оттереть трусики и юбку, размышляя о том, что после такой процедуры почти наверняка подцепит простуду. Прежде чем одеться, Кука развешивает белье на ветках дерева, чтобы оно хоть немного проветрилось. Лежа на сырой земле и понемногу обретая покой, она еще внимательнее вглядывается в прекрасное ночное небо, усыпанное звездами. Внезапно, словно вырвавшись из кладбищенских закоулков, до нее долетает чувственная песня. Голос влюбленной, изнемогающей женщины умело и с толком поет болеро – одно из тех, от которых хочется вскрыть себе вены, сунуть голову в петлю, а потом выброситься с балкона. Кука испытывает даже не страх, а панический ужас, когда внезапно весь мир нисходит в ее душу. Она хочет понять, откуда доносится сладостная песня, но все кладбищенские аллеи одинаково пустынны. И тогда она постигает, что этот гладкий, как полированное черное дерево, голос спускается к ней из неведомого безбрежного – или безгрешного? – пространства, оттуда, с той высоты, которая выше ветвей кладбищенских деревьев, – это голос миротворящей любви, придуманной нами, людьми, и названной небесной. Это голос бездонного синего неба, сейчас такого черного, усыпанного блестками звезд, среди которых парит сотканная из звуков женщина – царственная, наводящая ужас негритянка; и она улыбается нам оттуда, из поэтических высот, где обитают ложные иллюзии. Тело ее – ничком или навзничь – раскинулось на весь небосвод, и жирные складки у талии свисают, как спасательный пояс, до самого низа живота, а округлые бедра похожи на прекрасные предгрозовые облака. Тучная пластилиновая негритянка небесный рояль – романтически взмахивает ресницами, и светляки, завороженные, садятся на ее веки. Кука вглядывается еще пристальнее и замечает, что певица разлеглась, как на огромном диване, на покрытых печатным шрифтом страницах, словно оживший персонаж какой-то запретной книжонки. От этого зрелище становится еще прекрасней, а голос парит среди созвездий с несравненной глубиной и силой:
Первое наше свиданье,
сладостный дивный миг
пламенное слиянье
губ моих и твоих…
Кука так поглощена мелодией и словами болеро, исполняемого обернувшимся негритянкой небом, что не сразу слышит хруст шагов на гравийной дорожке. В мгновение ока чары развеиваются – где-то недалеко затевается ссора, даже драка, слышны сухие звуки ударов. Старуха вскакивает с земли, быстро укрывается полиэстеровой юбкой и прячет в корзинку шерстяные трусики «сделано на Аляске».
…первое наше свиданье,
вечер прозрачен и тих,
пламенное слиянье
губ моих и твоих.
Первое наше свиданье.
О, как этот день далек…
И вновь воцаряется священная тишина, овеянная упоительными запахами полуденного жасмина, жимолости и всех прочих цветов, достойных танго. Среди теней, в путанице кустов и надгробий, мелькает силуэт мужчины. Это. он. Сомнений быть не может, это он, ее любовь. Она узнает его даже в темноте. Она чувствует его запах. Кто в целом мире еще может пахнуть одновременно подгнивающим зубом, «Герленом» и мятой? Но какой он сейчас? Может быть, это только призрак, видение, может, он умер там, в Майами, и теперь явился навестить ее? Ах, она могла бы догадаться, что духам позволено перемещаться совершенно свободно, что никакие границы и блокады им не преграда. На всякий случай, осторожничая, она спрашивает – так, будто они виделись только вчера:
– Уан, это ты?
За несколько секунд Уан успевает перерыть всю картотеку своей памяти и натыкается на замечание старинного приятеля-сыщика: «Три самые лучшие службы безопасности в мире – ЦРУ, бывшее КГБ и кубинская – все средства тратят на слежку». Вывернись он хоть наизнанку, ему нипочем не удалось бы сохранить инкогнито. Поэтому он решил сразу включиться в игру. В аэропорту «Хосе Марти» перед его надменными английскими ботинками расстелили красную ковровую дорожку, как перед главой государства. Сами Роба и На, Алардон Фуме и Моно Аасо, которого в Париже, пожалуй, окрестили бы Моной Лизой, ну а мы называем попросту, Моно Аасо, явились лично, прихватив с собой свору подручных, чтобы приветствовать его. Это значительно облегчило ему въезд в страну, да и в протокольном зале его уже ожидали, так что даже багаж его не подвергся досмотру. Шофер в «мерсе» привез его в выстроенную по последнему слову техники виллу в Аагито, с бассейном, но без воздушных садов. До сих пор все шло хорошо, хотя он и не знал, действительно ли вся эта пышная встреча устроена для него или его просто с кем-то путают. Как бы то ни было, в паспорте открыто значилось: Хуан Перес. Но читателю уже известно, что Хуанов Пересов в этой стране хоть пруд пруди. Надо отвечать без задержки, и Хуан реагирует, повинуясь инстинкту:
– Очень приятно, почтеннейшая, надеюсь, вы не расшалившийся призрак, – сказал он, дружелюбно протягивая правую руку.
– Попробуй только заявить, будто не знаешь меня.
Надо отметить, что, благодаря коренной ликвидации зубов, голос Куки Мартинес значительно изменился.
– Признаюсь честно – не знаю. Но если вы узнали меня в час ночи посреди темного кладбища, то это как минимум говори! о том, что в детстве мы вместе играли в «эне-бене-раба».
Старуха достает из своей неизменной спутницы-корзинки китайский фонарик и, высветив лицо любимого, снедаемая смущением и жалостью к себе, бормочет:
– Уан, жизнь моя, ты такой новенький, как из целлофановой упаковки, даже, кажется, помолодел.
– Ну, допустим, мне недавно сделали небольшой lifting.[23]
Слово звучит непривычно и грубовато, но Кука, не обращая на это ни малейшего внимания, продолжает медленно приближаться к Уану.
– Дайте мне фонарь, теперь мой черед узнать, кто вы. – Он протягивает руку к фонарику, но Кука, поколебавшись, выключает его.
– Стой спокойно, я теперь такая же ветхая, как международная страничка в «Гранме», которую хорошенько помяли, перед тем как подтереться. Не волнуйся, я сама скажу. Перед тобой – ни много ни мало – женщина твоей мечты.
Уан невольно задумывается над тем, как могла всего за несколько лет так состариться Наоми Кембелл, Да, он всегда говорил, и вот еще одно тому подтверждение: нынешняя наука день ото дня нас все больше расстраивает.
– Это я, Кукита Мартинес, дегенерат.
Последнее слово она произносит хриплым, испитым голосом, но при этом иронично и ласково растягивая слоги, точь-в-точь как произнесла бы его Мерседес Гарсия Феррер, поэтесса, жившая напротив гостиницы «Капри» и писавшая такие письма, что туши свет. Ласково, позабыв о годах разлуки, которые, как вы видите, не всегда приносят забвение, она продолжает: