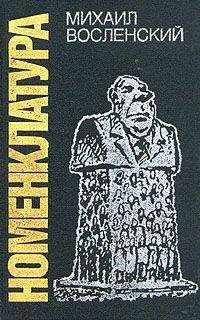В темноте мое лицо, как и их лица, расплывается в беззаботной улыбке.
— Послушай, — зовет меня мать, и я, продолжая улыбаться, поворачиваюсь к ней.
Глаза матери сверкают, как у сокола. Этим взглядом она напугала меня, когда я вернулся из воспитательной колонии. Раньше у нее не было таких глаз.
— Да? — говорю я растерянно.
— Тебе что, операцию сделали? Ты не косишь.
Всю нашу семью будто враз поразила эпидемия болтливости. За стенами дома наверняка уже летали, хлопая крыльями, слухи о моем высокомерии, но мы, забыв обо всем на свете, забыв о брюзжании деревенских, с головой окунулись в разговор обо мне. Говорил я один.
До поздней ночи я заставлял с бешеной скоростью вращаться шестерни этой болтовни, смазанные льстивыми поддакиваниями всей семьи — во тьме кинотеатров их сердец я с упоением демонстрировал фильм о своих успехах: о переходе благодаря прилежной учебе на факультет политических наук, о том, что я репетитор дочери известного политического деятеля…
В глубине души я стыдился, ненавидел себя за эту выспреннюю болтовню. Ведь этим я неприкрыто демонстрировал свою сущность сына мелкого деревенского торговца, разоблачал собственную подлость и лицемерие. Так насмешливо думал я, устав от собственной болтовни. «Я и вправду плебей, — думал я. — И мне никогда не следует об этом забывать. И вести себя следует так, чтобы люди не догадывались об этом. Нельзя, чтобы в самый решительный момент моя плебейская сущность подставила мне ногу. Вместо сдержанности и основательности, присущих деревенским жителям, я болтлив, как мелкий торговец. Но о чем еще я мог рассказывать своим домашним? Об охватывающем меня каждую ночь чувстве беспомощности или остром, как боль, ощущении тревоги? О моем постоянном ночном кошмаре — эскалаторе, стремительно несущемся вниз? Нет, я не мог позволить такой жестокости по отношению к матери. Даже если подрагивание этих глаз и губ, легко поверивших в мое радужное будущее, загонит меня во мрак еще более отчаянной тревоги».
Брат, который оказался значительно взрослее, чем я думал, нащупал мое внутреннее состояние. Мне это стало ясно в ту минуту, как он сказал грубым ломающимся голосом:
— То, что ты говоришь, очень напоминает рассказ нашего старшего брата, когда он приезжал с фронта. Горячий и благополучный и такой счастливый-счастливый.
Возмущенная мать возразила:
— Он был отважный и добрый, командир его любил — разве это не правда? Командир даже предлагал ему после окончания войны вместе открыть торговую компанию — разве это не правда? Тем более, человек умер… Чего о нем теперь болтать?
— Да я и не собираюсь ничего говорить о нем. Мне вовсе не интересно, правду он там говорил или неправду, мне это не известно, — серьезно сказал брат. — Просто брат погиб до того, как кончилась война. И у него не было возможности подогнать свой рассказ к сегодняшней жизни. Вот и все, что я хотел сказать. По крайней мере ему не пришлось разочароваться, ни одной катастрофы в жизни…
— Ты так говоришь об умершем, потому что сам боишься катастрофы на экзаменах, — сказала мать.
Брат плотно сжал губы и сердито глянул на мать. Потом вдруг приветливо улыбнулся, поднялся и вышел из комнаты.
— Провел электричество в дальнюю комнату и занимается там. Чудак, — сказала младшая сестра.
Мать стала жаловаться на строптивый характер брата. Но все равно в ее словах чувствовалась теплота.
Я делал вид, что слушаю ее, а сам думал об удивительной перемене, происшедшей в брате. И о его словах. Он теперь уже не доверчивый простачок. Вот об этом я и думал. Действительно, старший брат, погибший на войне, избежал житейской катастрофы. А мне после университета придется столкнуться с настоящей жизнью. И у меня нет никаких шансов погибнуть на войне и, уйдя тем самым с полпути, оставить в неприкосновенности свои светлые планы на будущее, избежав осуждения. Сейчас мирное время, и ради какого-то одного японца никто не станет затевать новой войны. И я в страхе и тревоге, что не оправдаю надежд семьи, и меня за это будут презирать и осуждать, вынужден, хочу я того или нет, идти вперед, потому что мне некуда свернуть с полпути. О, как много самых обычных юношей в годы войны смогли погибнуть героями, оставив в сердцах любящих людей воспоминания об ожидавшем их счастливом, великом завтра, и благодаря этому избежали позора катастрофы, которую они, несомненно, потерпели бы в жизни!
— Сколько бы он сделал сейчас, если б не умер в военном госпитале в Бугенвиле, — сказала мать со вздохом, посмотрев на фотографию молодого солдата, висевшую над алтарем в углу комнаты, в которой мы сидели вокруг жаровни.
Но что было бы на самом деле? Не исключено, что девяносто девять дел, за которые он взялся бы, оставшись в живых, пошли бы прахом, а последнее, сотое, он бросил бы на полдороге. И на этот, сотый раз его хозяин разозлился бы и стал возносить кого-то другого, погибшего на войне: «Эх, если бы не погиб на Сайпане тот чудесный юноша! Он бы ни за что не натворил подобных глупостей». Но ни я, ни брат, и никто из японцев, выросших после войны, не может прямо сказать своему хозяину, что почитание погибших — чушь. Разве не самая что ни на есть чушь превозносить погибших на этой войне? Разве это не самое низкое вероломство мелкого, ни на что не способного поколения старшего брата?
Мне было понятно, откуда у младшего брата взялся этот горячий, буквально душивший его комок негодования, — он ушел разозлившись. У меня самого дыхание захватило и такой же горячий комок подкатил к горлу. В мирное время будет тяжелее жить, чем в войну. Это — мое внутреннее убеждение. Но говорить об этом не следует. Нужно безмолвно вынести это. И все равно вскипает негодование! Чувство неустойчивости и ощущение вечных трудностей, чувство изнеможения, безотчетная злоба, надвигающаяся всеобщая депрессия духа, крадущийся в густой траве лев отчаяния и кровожадный дикарь, олицетворяющий тщету всех усилий, — вот с чем столкнулась наша молодежь в век всесилия мира и всеобщего благоденствия, вот мои враги, с которыми мне бороться. Не слишком ли грустная перспектива для честолюбивого юноши, сына деревенского торговца, бывшего воспитанника колонии, готовящего себя к карьере политика?..
— Этот мальчишка заявляет, что хочет стать музыкантом. Хотя ни разу даже пианино не видел. Твердит, что хочет стать музыкантом. Отговорил бы ты его, — сказала мать.
— Не думаю, что мне удастся отговорить его, — сказал я, сдерживая злость. — Ведь он еще в детстве хотел стать музыкантом.
— Дедушка трижды хотел жениться, и трижды музыканты становились у него поперек дороги. Он бы, наверно, рассердился, узнав, что мой сын хочет стать музыкантом.
Сестры захихикали. Неожиданно, как подарок за свою болтовню, я ощутил острое чувство опустошенности, желание заснуть и до боли в скулах стал зевать.
— Пора спать, — сказал я, посмотрев на сестру влажными от зевоты, усталыми глазами.
И точно мои слова были повелением императора, мне тут же была приготовлена постель. Еще покойный отец говорил, что в нашем доме такой обычай: женщины — рабы мужчин.
В затихшем темном доме точно жужжание мух разносилось сонное дыхание спящих, а еще слышался шелест леса, журчание реки, подземный гул, содрогающий деревню. И все эти звуки водоворотом кружили вокруг меня. Мне показалось, что я с головой окунулся во что-то мягкое и сырое, и я вскрикнул. И тут же мне стало стыдно своего крика. Тогда я встал, нашел в чемодане снотворное и, зажав таблетку, крадучись пошел на кухню.
— Кто там? — раздался из темноты голос брата, он точно окатил меня ушатом воды.
Брат сидел в своей комнатушке, не зажигая света.
— Хочу принять снотворное. Единственное наслаждение, единственная отрада, — сказал я, ощетинившись в темноту.
— Но ты ведь бедный? — сказал брат, продолжая скрываться в темноте. — Разве бедные пьют дорогое снотворное?
— Бедный, конечно. Я бедный студент. Но бедность студентов-горожан по своей сущности не имеет ничего общего с бедностью студентов-провинциалов. Студенты — столичные жители могут с гордостью выставлять напоказ свою бедность, а студенты-провинциалы до смерти ее стыдятся. Наша бедность — это чуть ли не дурная наклонность, которой нужно стыдится. И, чтобы скрыть ее, мы роскошествуем, даже если на завтра не остается денег, чтобы купить еды. Я стоически отношусь к своей бедности. Я веду монашескую жизнь. И единственная моя отрада, единственное уязвимое место в прочных доспехах стоика — снотворное.
— Я не пью снотворного. Мне не нужен сон, если он не идет ко мне, — сказал брат, появляясь из темноты.
Избегая его сверкающих глаз, я выпил снотворное. Холодная вода обожгла горло, холодом пролилась в желудок. На языке осталась горечь. Мне было стыдно.