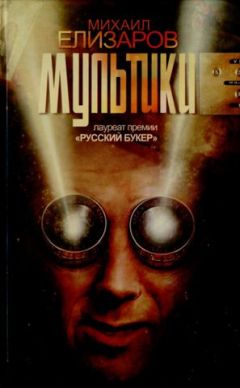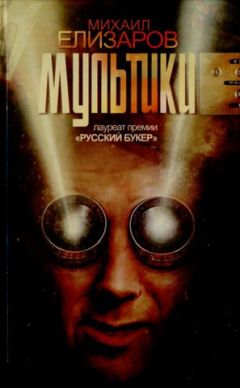Ознакомительная версия.
Я заметил, что произошла очередная подмена с пропорциями. В жизни я был почти одного роста с папой, а на картинке почему-то едва доходил ему до груди. Диафильм сознательно сделал меня маленьким. Но мне уже было не до правдоподобия, я чувствовал, что произошло нечто куда более ужасное…
«Вот, теперь ваш Герман снова с вами, — радостно сказала Ольга Викторовна. — Теперь все будет хорошо!..» — «Разум Аркадьевич, Ольга Викторовна, а можно эту ночь и воскресенье Герман еще останется с нами? — спросил отец. — А утром в понедельник мы его приведем». — «Заодно и вещи ему соберем, одежду, и перекусить что-нибудь», — умоляюще прибавила мать.
Разумовский и Данько переглянулись.
«Лично я не возражаю, — сказал Разумовский. — Ольга Викторовна, а вы как считаете?» — «Я не против. Так даже проще. Я пока документы на него оформлю, комнату приготовлю…»
— Герман вприпрыжку подбежал к вешалке, сорвал свое пальтишко, нахлобучил шапку: «Тогда до скорого, Разум Аркадьевич!» — задорно крикнул он. — «До понедельника!» — улыбнулся воспитатель. — «Спасибо вам, — произнес отец. — За все спасибо!» — «И низкий земной вам поклон…»
Мама церемонно, с рукой, поклонилась, как солистка танцевального коллектива «Березка».
«Мы проводим вас», — предложил Разум Аркадьевич. Родители вывели Германа на крыльцо. Вслед за ними вышел Разумовский, галантно придерживая тугую дверь для Ольги Викторовны. Она, словно бурку, накинула на плечи полушубок…
Ночь в диафильме походила на новогоднюю открытку — золотой месяц в россыпи звезд, крупные, напоминающие стружки, снежные хлопья. Кирпичную стену, мусорные баки и кусты покрывали белые папахи.
— Герман вприпрыжку сбежал по ступеням крыльца. — «Осторожнее, — предупредила Ольга Викторовна. — Здесь может быть скользко». — Родители осторожно спустились вслед за сыном и крепко взяли его за руки…
Я снова поразился своей нарочито дошкольной комплекции — Герману на картинке можно было дать как десять, так и шесть лет.
Крупный план показал Разумовского, машущего рукой.
«До понедельника, Герман!..»
Родители уводили своего уменьшенного сынка, густой снег противно поскрипывал в унисон с таким же скрипучим колесиком диапроектора. За кадром звучал голос Разумовского, исполненный прощальной задушевности:
— На всю жизнь запомнил Герман удивительную встречу с замечательным человеком — Разумом Аркадьевичем. Мудрый педагог смотрел мальчику вслед. На сердце у него было светло. Разумовский знал, что за коротким расставанием будут новые встречи, долгая плодотворная работа и завтрашняя радость!..
Нарисованный оглянулся. На его маленьком хитром личике я увидел злую ухмылку. Больше он не оборачивался.
На экране Рымбаевы благополучно удалились. Но живой настоящий Герман Рымбаев так и остался в Детской комнате милиции… С убийственной ясностью я понимал, что топчущимся на крыльце воспитателям это тоже прекрасно известно.
Разумовский и Ольга Викторовна обменялись долгими проницательными взглядами. Уголки губ Ольги Викторовны дрогнули, потянулись вверх. Разумовский в ответ расплылся в радостном собачьем оскале. Ольга Викторовна распахнула рот, точно хотела откусить половину яблока, и захохотала. Спустя мгновение таким же неудержимым гоготом разразился Разумовский. Нечеловеческое веселье согнуло их пополам…
Лишь однажды я слышал подобное, когда мы с ребятами еще в конце сентября были в зоопарке. Лысому стало скучно, и он принялся стучать палкой по клетке с павианами, чтобы расшевелить их. Самцы и самки подняли жуткий обезьяний гвалт, подхваченный в соседних вольеpax. — Истошно, будто их облили бензином и подожгли, визжали макаки, заголосили павлины, на их вопли отозвались звонким тявканьем лисицы и шакалы…
Такими же во всю пасть оскаленными звуками смеялись Ольга Викторовна и Разум Аркадьевич. Старший инспектор вылаивала короткие трели и в изнеможении колотила рукой по перильцам, Разумовский верещал всем выдохом и рыл ботинком крыльцо. Но самое страшное, этот хохочущий дуэт находился уже не в пространстве диафильма, а за окном с безвоздушной чернотой.
— Ну что, Разум? — произнесла наконец Ольга Викторовна. — Пошли, что ли?!
— Пошли. — Разумовский утер выступившие слезы, выпрямился. Теперь они смотрели прямо на меня. Их лица все еще сотрясал смех. Они сделали шаг, быстрый кадр показал их со спины. Разумовский и Ольга Викторовна проследовали в дом, входная дверь захлопнулась. Крыльцо опустело. Я знал, куда они идут — в детскую комнату, ко мне, беззащитно сидящему на колченогом стульчике перед экраном…
В какую-то секунду мелькнула мысль, что такого быть не может, ведь Разумовский обязан находиться у диапроектора. Я оглянулся, чтобы убедиться в этом. Стульчик резко качнуло назад…
Из диапроектора бил выхлопной столб электрической пыли. Разумовского в комнате не было.
Зато ожили страшные черные окна — за ними виднелась ночь с крупным месяцем, звездами и снегом, проступали черные контуры деревьев и кирпичный забор…
Падая вместе со стульчиком, я услышал, как колесико диапроектора душераздирающе скрипнуло, вытянув кадр, похожий на сухой завернувшийся лист. Возможно, в этом месте пленка была перекручена.
Я рухнул на пол, но не ощутил никакого удара. Тело сделалось бесчувственным и каким-то ватным, словно вместо меня упал кто-то другой. Заевшую пленку потянуло наверх. На экран вылезла перекошенная пустота с дырами перфорации по краям.
Но это я уже увидел в опрокинутом состоянии. Почему-то вспомнилась мертвая закатившаяся голова бедного Валерки Самсонова. Моя голова лежала бессильным профилем, причем по ощущениям как-то отдельно от туловища, в нескольких шагах, а остекленевшие глаза смотрели прямо и неподвижно на экран. Осенила догадка: наверное, я просто не заметил, как подкравшийся сзади Разум Аркадьевич полоснул меня по шее ножом…
Я подумал: «Странно, если мне отрезали голову, то где же кровь?» И в эту же секунду изо рта потекло. Я распробовал знакомый по дракам соленый вкус, и в умирающий мозг кирзовым сапогом ударил страх. Кровь была плотной и густой, точно пожарная пена. И цвета она была совсем не кровавого, а скорее перламутрового, как слюна. Не в силах моргнуть, я таращился на лунный прямоугольник экрана…
Луч невидимого диапроектора начал странно мерцать с нарастающей клацающей частотой. Вскоре его бледный свет набрал нужную скорость и превратился в ослепительный белый протуберанец, заставивший меня открыть глаза.
Сквозь оконные стекла било неестественно яркое, какое-то летнее солнце. Щекой я ощутил шероховатую ткань наволочки. От нее исходил свежий прачечный запах. Я был укрыт одеялом до подбородка. Первое неудобство я ощутил во рту, словно мне затолкали туда скомканные бумажки или марлю. Я постарался вытолкнуть мусор языком и понял, что никаких посторонних предметов во рту нет. Просто распухший почему-то язык занял весь рот и создал ощущение бесформенного тряпичного кляпа. Я перевернулся на спину, одновременно провел рукой по ноге — штанов не было. На секунду навалилось дикое счастье. Пробуждение перечеркивало весь произошедший со мной ночной ужас: «Это был сон!»
Вдруг резко обступила реальность. Надо мной был чужой потолок, слишком высокий, с незнакомой трещиной. Откуда-то со стороны ворвались посторонние голоса. Кровать была тоже чужая — там, где заканчивались мои спеленатые одеялом ноги, поднималась металлическая спинка. Страх дернул меня за все ниточки. Я проснулся не дома! Но тогда где? Неужели в Детской комнате милиции?
Я резко поднялся и сразу увидел маму. Она сидела рядышком на стуле. За ее спиной стояли четыре одинаковых койки, разделенные белыми тумбочками. На одной тумбочке, похожий на огнетушитель, возвышался красный термос. Две койки, что ближе к окну, были застелены, а на последней, рядом с дверью, кто-то спал, отвернувшись к стене. Мой сосед слева, небритый мужик в трусах и майке уплетал что-то из пол литровой банки, грузная немолодая женщина подсовывала ему огромный, размером с лапоть, бутерброд. Пара негромко переговаривалась. Сосед справа — дядька лет шестидесяти в спортивном костюме — лежа читал газету.
Мама заботливо уложила меня на спину, поддерживая голову ладонью:
— Нельзя так резко подниматься. Как ты, сынок? — Лицо у нее было измученным и зареванным.
В моей голове застучали горячие кровяные пульсы.
— Му-м, мам-а! — Распухший язык плохо подчинялся. — Пвостите, я бовше не буву…
Речь оказалась полностью искорежена. Я смешался и замолчал.
У мамы на глаза набежали слезы:
— Ты ни в чем не виноват, сынок! Запомни. Ни в чем. Это может произойти с каждым!
Я решил не уточнять, что именно может произойти с каждым. Ведь и врачам, и родителям было прекрасно известно, откуда меня привезли в больницу. И то, что мне об этом пока не сообщалось, еще не означало, что наказание отменили. Я просто лежал и молчал, а мама держала меня за руку.
Ознакомительная версия.