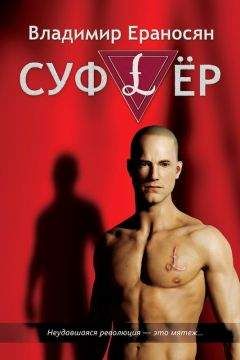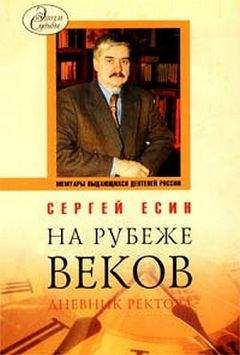Констанция Михайловна тоже хороша. Кто ее просил вторым списком дополнять свою объясниловку? Стоять надо было, дурьей голове, намертво: не помню, не знаю, пьяна, в конце концов, была, кто-то заходил, а я видом не видывала, слыхом не слыхивала. С кем связалась! Это тебе не интеллигенция, которая из деликатности, чтобы себя в ложное положение не поставить, чтобы лишний раз не сунуться, промолчит. Эти работяги до всего допрут, не постесняются, горлом правду добудут. От них пощады не жди. Осрамилась. Всю теперь ее наизнанку вывернули. Все вспомнили. На пенсию ей? Уходит? Да это же коллективная травля пожилой женщины! Что, у нас в стране много свободных рук? Пенсионеры, которые еще могут работать, должны гулять? А ее высокая квалификация, а три грамоты, которые ей дали в разное время, а опыт? Разве это все надо на свалку истории? Травля, и с попустительства директора. А почему? А потому что на худсовете она была принципиально против «Детского зверинца». Не была? А мы напишем, что была. Это слишком легкая доля — остаться в меньшинстве и не бороться. Так можно и дисквалифицироваться. Мы им заварим новую кашицу!.. С маслом и изюмом. Они, начальнички, еще поскачут, еще попрыгают через веревочку. Одно письмо — в одну инстанцию. Комиссия. Разбор фактов. Бессонница. Плохой аппетит. В другую инстанцию письмо. Как там у вас с давлением? Принимаете элениум? Это очень слабо. Пейте триоксазин или мепробамат. В критических ситуациях. Главное — хороший сон. Жалуетесь на желудок? Колит, язва? Волнение часто приводит к язве. Не волнуйтесь. Старайтесь держать себя в руках. Курить надо бросать. В критических ситуациях надо беречь сердце. Оно первое сдает. Больше гуляйте, спите при открытой форточке, обтирайтесь по утрам холодной водой. Опять комиссия? Не волнуйтесь. Разве вы пережили только одну? Сгинет, все пройдет. Будьте бодрее. А мы готовим новое письмецо. Где там моя ручка за тридцать пять копеек? Ну уж дудки. Второй раз я не попадусь. Возникновение стереотипа на меньшем количестве ошибок и называется интеллектом. Довольно шарикового чуда. Куплю себе пишущую машинку, сменю в мастерской шрифт на крупный — так читать легче — и за работу. Век прогресса, ничего не поделаешь.
Через месяц после этих событий на фабрике гибких грампластинок рано утром ее директор Борис Артемьевич Макаров, очень высокий и худой блондин сорока лет, вошел в свой кабинет. Он открыл крышку и сел за рояль. Как бывало раньше, пока никого в заводоуправлении еще не было, директор разминал пальцы и проверял несколько музыкальных фраз, которые приходили ему в голову вечером, утром, когда он шел на работу. Но уже месяц из-под пальцев директора ничего стоящего не выходило. За окном светило весеннее солнце, распевали снегири. Солнечный зайчик прыгал в графине с водой. На душе у директора было ровно, спокойно. А вот с роялем что-то заколдобило. Музыка из-под пальцев шла банальная, постная, и записывать ее не было смысла. Он и не записывал. Но каждое утро садился к роялю в надежде: может быть, это вернется?
Утром, как обычно в шесть, Алексей Макарович проснулся, но отчего-то не встал.
В доме уже привыкли, что в шесть начинаются шорохи: Алексей Макарович идет сначала в туалет, потом в ванную, потом греет чайник для себя, потом к восьми — хлопает дверь — уходит в молочную за свежим творогом, молоком и сыром. Покупает по пути мягкий утренний хлеб и, возвращаясь, кипятит большой чайник — для всех; чистит картошку, если с вечера была запланирована жареная картошка, накрывает на стол: четыре салфетки, четыре тарелки, четыре подставки для яиц, масленка, сахарница, вазочка с вареньем, четыре стакана для молока и четыре чайных чашки.
Во сне Екатерина Борисовна отметила, что в шесть не было обычной возни в комнате мужа, но особого внимания этому не придала; может быть, он встал сегодня осторожней, чем обычно, да и окончательно просыпаться ей не хотелось, но около восьми она пробудилась от тишины. Она накинула на себя халатик из нейлона — изящная гэдээровская вещица, продаваемая в комплекте с ночной рубашкой, и пошла в кухню. По дороге Екатерина Борисовна остановилась возле комнаты дочери и зятя: дрыхнут вовсю, еще молодые, здоровые, по двадцать пять, пусть поспят, понежатся, покуда их здоровье и печали пестуют родители, и прошла в кухню. Там все было чисто, вылизано, видимо, Алексей Макарович после программы «Время», когда Екатерина Борисовна вместе с Наташкой и Гришей осталась досматривать «Песню-80», перемыл всю посуду и кастрюли, вытер стол, почистил плиту и подмел полы. Это он умеет: солдатский порядок! Но к завтраку ничего не было готово.
Легкая тревога забилась у Екатерины Борисовны под сердцем; она не любила беспричинно волноваться, жить надо рационально, волноваться только тогда, когда есть повод. Несмотря на то что Алексею Макаровичу семьдесят пять, мужчина он вполне крепкий, бегает, как молодой, и хотя видит плоховато, но и здесь, знает Екатерина Борисовна, ей бояться не следует. Может, она давала ему какое-нибудь поручение на утро? Вроде нет. За цементом для дачи Алексей Макарович с Гришей должны поехать в «Стройматериалы» только послезавтра. Видимо, с грустью и некоторым незлобивым гневом отметила Екатерина Борисовна, Алексей Макарович все же начал сдавать: проспал.
В голове у Екатерины Борисовны, уже окончательно провеявшейся, свободно и ясно, как в электронной машине, она быстро прикидывает, что бы сделать молодым и себе на завтрак, но возникшая тревога все же окончательно не расходится. Екатерина Борисовна разворачивается на узком пространстве кухни, горящей эмалью и никелем, и движется в конец коридора, к комнате мужа; но прежде чем потянуть на себя дверь, мельком оборачивается к висящему в коридоре зеркалу: нет-нет, еще ничего, фигура весьма стройная, возраст она уже и не прячет — пятьдесят пять лет, его и не спрячешь, но седина, которую она чуть подкрашивает в синий или фиолетовый цвет, ее определенно молодит. Интересная деловая женщина. Не кокетка без возраста, женщина с характером, умеющая постоять за себя и семью. Екатерина Борисовна трогает рукою локон на щеке: хоть и двадцать пять лет замужества, хоть и собственный муж, но чумичкой ему тоже показываться незачем.
— Алеша, ты не приболел? — входит Екатерина Борисовна в комнату. — Что с тобой, где твой солдатский распорядок?
Она еще продолжает что-то щебетать, но уже понимает, что произошло с Алексеем Макаровичем что-то серьезное и ей надо мобилизоваться.
Муж лежит на своем нешироком топчанчике и молчит. Глаза у него открыты, осмысленны, дышит спокойно.
— Алеша, что с тобой? Ты будешь вставать? Ты здоров?
— Здоров, — отвечает Алексей Макарович, и Екатерина Борисовна отмечает, что голос у него непростуженный, бодрый, но все же в голосе есть что-то непривычное для слуха. Какая-то тоненькая щепочка, которая занозит сознание.
— Ты будешь вставать? — повторяет свой вопрос Екатерина Борисовна.
— Нет.
— Ты нездоров?
— Здоров.
— Может быть, вызвать врача?
— Не надо.
— Что с тобой?
— Я устал.
Екатерина Борисовна прикидывает: конечно, поднять с постели мужа можно. Сейчас она расплачется. Наташа прибежит ее утешать, тоже зальется в два ручья, в дверях встанет немым укором зять Гриша, а Алексей Макарович слез не переносит… Но надо ли?.. Что-то давно в Алексее Макаровиче намечаются какие-то страсти; с этим надо разобраться. Нет, она, Екатерина Борисовна, сейчас пойдет обходным маршем.
Голос ее становится мягким, медовым:
— Хорошо, полежи…
Отвернувшись к стенке, Алексей Макарович слушал привычную музыку утренних шумов в доме. Вот по коридору простукали каблучки Наташки, прошлепал, направляясь в ванную, Гриша, и тишина, лишь скрипнула дверь в кухне и раздались приглушенные голоса — совещаются.
У Алексея Макаровича не было ни злости, ни раздражения на близких — у них свои проблемы и своя жизнь, а у кого, спрашивается, жизнь легкая, но одновременно в душе собралась какая-то холодная, равнодушная решимость, что жить так, как он жил последнее время, нельзя, что ему уже семьдесят пять, уже одной ногой стоит на пороге могилы и в конце жизни он не должен терять самоуважения, достоинства, он должен оглядеться, в последний раз почувствовать гармонию и красоту быстротекущих, как песок в медицинских часах, дней, почистить перед смертью, как чистят и выбивают от пыли зимнее пальто в конце сезона, почистить и помыть свою душу и — ну, что же, он хорошо пожил, долго, и негоже оставаться у жизни в должниках.
Все это пронеслось у него в сознании спокойно, без растравляющей жалости к себе, так, будто все это думал он не о себе, а о чужом, уважаемом, но все-таки не очень близком человеке.
Из-за закрытой двери снова раздались шаги и голоса. Совещание, значит, закончилось, все собираются на работу. Успели ли позавтракать, сочувствуя близким, подумал Алексей Макарович и тут же решил: да что же они — все маленькие, беспомощные и почему он должен быть для всех нянькой, почему? Вот была Наташка маленькой — он и был нянькой, а почему сейчас? Да и как он допустил до такого положения, что стал нянькой, какое имел право? Ведь как-то по-другому живут его сверстники, товарищи. Вот недавно под Прохоровку ездили на автобусе. На шесть дней, автобус давали «Икарус» с откидными креслами и холодильником. Ему тоже военком позвонил: «Давай, Алексей Макарович, развейся. Не век же сидеть дома, я же знаю, тебе интересно. И все бесплатно — и проезд, и гостиница, и питание…» Он сначала согласился, зажегся, а через два дня пришлось перезванивать: выяснилось, что должны были прийти мойщики окон из фирмы «Заря», а перезаказать их на другой срок оказалось невозможным. Екатерине Борисовне нужно было сдать в ателье пальто, а кому, как не ему, Алексею Макаровичу, занимать очередь — он в семье единственный неработающий, — и другие домашние дела нагрянули (а может быть, именно он придумал, что они неотложные, а на самом деле все это мелочь, быт, сиюминутное, пожирающее его жизнь), и вот пришлось отказываться от поездки. Грустно.