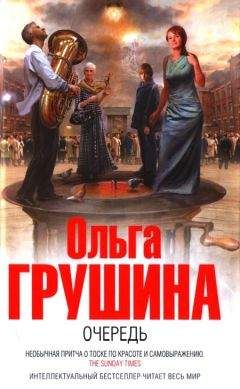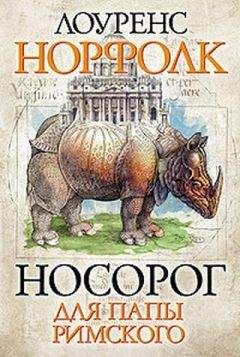— Пашка, брат мой младший, — объяснила Любовь Дмитриевна, продевая руки в несвежие рукава халата. — Он днем торгует, я — вечером. У нас до девяти открыто.
— Вот оно что, — запинаясь, промямлила Анна. — Понятно.
Ожидавшие в очереди женщины, не двигаясь, не говоря ни слова, глядели на них бесстрастными, застекленными глазами цвета слякоти на лицах цвета застиранного белья.
— Дышать нечем, вечно поливает себя всякой дрянью. Одеколон, ясное дело, импортный, но надо ж меру знать… Да вы заходите, заходите. — Ворча, Любовь Дмитриевна втянула Анну за собой и задвинула изнутри засов.
Анне почудилось, что она оказалась в неряшливом, сладко пахнущем шкафу. Здесь стояла парфюмерная духота; в призме слабого, блеклого света, который сочился через квадрат маленького оконца, роилась пыль; им вдвоем было не повернуться среди множества втиснутых сюда коробок, из которых некоторые громоздились на полках, а иные прятались под прилавком. Анне негде было сесть, она прижалась к дальней стенке и благоговейно склонила голову, чтобы разглядеть веселую стайку золотых тюбиков помады, и каскад чулок в блестящих малиновых упаковках, похожих на леденцовые, а то еще в сверкающих овальных коробочках, точь-в-точь как пасхальные яйца, и батарею непрозрачных, как на подбор, пузатых бутылочек, и какие-то спутанные дорожки шелка — вероятно, шарфики, причем некоторые показались ей знакомыми…
Любовь Дмитриевна как раз отпустила последнюю покупательницу. Повернувшись на стуле, она стала перебирать небрежно написанные картонные таблички, сложенные на прилавке: — Анна мельком заметила: «Переучет» и «Закрыто по болезни продавца», — выбрала ту, которая гласила «Вернусь через 15 минут», прикнопила к ставням и закрыла окно. Их шкаф тут же погрузился в тесный, давящий, бурый сумрак; теперь помещение освещала только узкая полоска бледного предвечернего солнца, которая пробивалась снаружи, тускло обводя по краям табличку в окне. В потемках Анна услышала, как Любовь Дмитриевна открывает ящики, шарит по полкам, шуршит, закрывает дверцы; а потом в воздухе поплыл другой запах, приятный, богатый, мягкий, струящийся густым, неторопливым потоком сквозь резкую приторность одеколона, и Анна задержала дыхание.
На потолке фыркнула голая лампа. Анна увидела, что на прилавке между ними появилась розовая коробочка; на складчатом атласном лоне гнездилась стая черных и белых шоколадных лебедей, каждый в сверкающем озерце серебряной фольги.
— «Оттуда». Люблю, грешным делом. Пробуйте, не стесняйтесь. — Размазывая по подбородку черный шоколад и красную помаду, Любовь Дмитриевна запихнула в рот целого лебедя и невнятно продолжила: — Так вот. В ноябре у нас новенькую взяли; ну, отметилась она, как положено, я тоже ходила, а как же… А мне сапожки позарез нужны были, но по блату достать не смогла. И что оказалось: от этой новенькой проку — как от козла молока. Может, из органов прислали. Я к ней и так, и этак, но в конце концов пришлось очередь занимать. А эта новенькая даже понятия не имела, чем торговать будет. Вообще не знала, с какой стороны к ларьку подойти. Это уж потом… потом муж мне про концерт сказал.
Она замолчала. Анна слышала, как по другую сторону гофрированной стенки собирается новая очередь: шаркали подошвы, люди таились, словно в засаде. Надо было бы поддержать разговор, но от запахов, тесноты, духоты и резкого света у нее поплыло в голове. Порывшись в коробочке среди розово-шелковой ряби, Любовь Дмитриевна выудила и съела еще одну конфету.
— А знаете, я ведь вам наврала, что домохозяйка… — заговорила она, не поднимая глаз.
Ее лицо под слоем косметики, похожим на нефтяную пленку, разоблачал неумолимый свет киоска; приглядевшись, Анна с удивлением подумала: «Вот так раз, ей далеко за тридцать, она мне ровесница, если не старше», — и поспешила отвести взгляд; ей сделалось неловко, будто она вызнала постыдную тайну.
Любовь Дмитриевна придвинула коробочку поближе к Анне.
— Вы даже не попробовали, кушайте, не стесняйтесь… Я думала, вы меня чураться будете, если узнаете. Вы ведь со своей колокольни судите: муж в оркестре играет, сын в университет поступать собирается, вы и сама с образованием, стихи читаете, все такое…
Анна с нежностью завернула белого лебедя в фольгу и осторожно положила в карман.
— Нет, что вы, — сказала она. — Ничего подобного. Просто я думала… Вовсе нет. Любовь Дмитриевна, если вы не против, заходите как-нибудь ко мне на чашку чаю. Давайте прямо завтра.
— Отчего же не зайти, — сказала Любовь Дмитриевна. — Можно, кстати, просто Люба.
Через несколько дней она в ответ пригласила Анну к себе. Квартира у нее оказалась точь-в-точь как у Анны, в типовом доме через две улицы; и хотя все комнаты были запружены неимоверным количеством дефицитных вещей, которые красовались на всех поверхностях, темнели в полуразинутых шкафах, поблескивали в сервантах, у Анны, бочком пробиравшейся среди этого изобилия, сложилось впечатление какого-то непостоянства, хаоса, как в подсобке комиссионного магазина. Следуя за Любовью Дмитриевной — за Любой, поправила она себя, — в кухню, она успела заметить шелковую блузу, еще с ярлыком, висевшую в дверном проеме, скопление трех бронзовых ламп на тумбочке в коридоре, открытый чемодан, содержимое которого вываливалось прямо на ковер — еще не затоптанный, даже с запахом обновки, но совершенно не подходивший к обоям.
— Красиво у вас, — из вежливости сказала Анна. — Вам помочь?
Люба расчищала место на кухонном столе: смахнула прямо на пол несколько пар чулок в нераспечатанных упаковках, просроченный билет на восточный поезд дальнего следования, японский веер с изящной росписью. В полете веер на миг раскрылся завораживающим видением какой-то другой, простой, чистой жизни — крошечная деревушка, берег синего озера, бегущие по лугу лошади — и так же быстро сложился. Люба молча расставила перед Анной чашки и блюдца, плюхнулась на стул, уронила лицо в ладони и заплакала, содрогаясь, хлюпая носом и не сдерживая рыданий.
Анна в ужасе застыла на месте, не зная, куда девать безвольно повисшие руки. Потом, решившись, торопливо села, с жутким металлическим скрежетом придвинула стул и приобняла рыдавшую женщину за ходившие ходуном плечи, как будто хотела их удержать, подавить их мучительные конвульсии, сотрясавшие ее, как беззащитную тряпичную куклу. Вскоре плечи утихли. Анна убрала руку.
— Кушай птифуры, — сказала Любовь Дмитриевна, тыльной стороной ладони размазывая по лицу слезы и кроваво-красную помаду; последний всхлип застрял у нее в горле икотой. — Вчера в закрытом распределителе взяла.
— Спасибо. — Анна положила себе пирожное. — Вкуснота, — добавила она после паузы, но Любовь Дмитриевна (Люба, просто Люба, еще раз напомнила она себе) не отвечала.
Растерявшись от зрелища чужой неведомой скорби, мучаясь неловкостью, Анна отвернулась к окну. Город стирали наплывавшие сумерки, но сумерки были не такими, как раньше: прозрачные по краям, они таили в своей сердцевине более темное, прохладное, осеннее зерно, словно камешек, зарытый в мокром песке; и с неба на нее вновь спокойно взглянуло ее собственное отражение, скинувшее годы. Она все еще смотрела в окно, когда Люба наконец заговорила.
— У моего мужа дочка есть, с нами живет. — Голос ее был таким тихим, что Анна склонилась к ней почти вплотную, иначе слов было не разобрать. — Видела в коридоре дверь закрытую?.. Девочка хворая, с постели не встает, даже шоколад не кушает. Какой ребенок от шоколадки откажется? А губы прямо прозрачные, зубки чуть не просвечивают… А я… у меня своих детей нет, уж чего я только не делала, да мне уже сорок шесть стукнуло, время мое ушло… Муж выпивает, на работу не устраивается, приторговывает сама знаешь где, хоть и рискует… а случается, и вещи из дому тянет. Два моих кольца вынес, мамину фотографию в рамке, а на днях смотрю — ложки серебряные пропали, только он ни в жизнь не признается…
— Но он тебя любит? — мягко спросила Анна.
Люба призадумалась.
— Кто его разберет. — Она пожала плечами. — Бывает, придет выпивши — и давай меня гонять, а потом прощенья просит, целует, подарки дарит… из краденого, так я понимаю, но все равно… Да, любит.
Анна опять отвернулась к окну и увидела, что глаза у ее отражения потемнели и застыли.
— А мой, кажется, меня не любит, — выговорила она.
Люба деловито сморкнулась в салфетку, подлила чаю, заставила Анну взять еще одно пирожное и выслушала ее исповедь.
— Кухня с пирогами ему не нужна, у него эта кухня уже в печенках сидит, — заявила она, кивая в знак своей правоты. — Вам нужно устроить свидание не дома, а в каком-нибудь романтическом местечке.
— У нас кафе рядом, — неуверенно сказала Анна.
— Нет, голубушка, в кафе какая романтика?