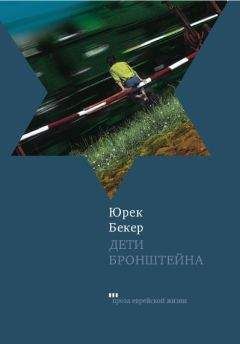Рахель с трудом пыталась вспомнить причину своего вторжения, я бы не удивился, если б она молча вышла. Но она справилась с замешательством — возможно, разгадав шуточку своей дочери. И, оторвав взгляд от кровати, спросила, не слушаем ли мы сейчас радио.
Мы с Мартой, понимающе переглянувшись, не рассмеялись, а дружно покачали головами. А Рахель на это: по радио передают, что умер Вальтер Ульбрихт. Минутку еще постояла, словно не решаясь оставить нас наедине с этим известием, затем все-таки ушла.
Марта взяла подушку с кровати, подложила себе на стул и снова принялась за работу, не говоря ни слова. Как-то бессердечно, по-моему. Нет, я не особый поклонник Ульбрихта, но некоторого осмысления новость все же заслуживала. Меня она задела за живое, будто ушел кто-то из моего окружения. Ульбрихта я знал лучше всех других руководителей нашей страны, хотя в последнее время о нем почти не упоминали. А в моей школе его портреты висели повсюду, даже в физкультурном зале и на лестнице.
Не было слышно, как она пишет, только локоть тихонько ехал по столу в сторону. Мне вспомнилась фраза из моего школьного сочинения по поводу его 75-летнего юбилея: «И за это мы всегда будем относиться к нему с любовью и уважением».
— Как думаешь, фестиваль теперь прикроют? — спросил я у Марты.
— А тебе-то что? Разве это твой фестиваль? — ответила она.
Листок весь исписан, она полезла в ящик стола за новым. Марта часто путалась в своих бумагах и записях, однажды я полюбопытствовал, отчего бы ей не писать в тетрадке, но она объяснила, что студенты тетрадями не пользуются, тетрадь — это для школьников. Вот, говорит, руке пора отдохнуть, а я что-то начал про дачу, могу рассказать дальше, она послушает.
И вовсе ей не любопытно, и ничего она не заподозрила, копается себе в ящике стола. Ну я и сказал, что проклятые гости зажились у нас в домике и никуда уезжать не собираются. Вот, дескать, и все.
Она нашла, что искала, а мне сунула в руки пакет — фотографии со съемок, и на всех она, Марта. Идет с каким-то стариком по улице (уж не Голубок ли?), сидит в купе поезда с журналом в руках, стоит перед полицейским — проверка документов, она замерла от страха. Брови у нее какие-то широкие, губы пухлые, выпяченные. Спросил, и она объяснила, что перед каждой съемкой идет к гримерше и та размалевывает ей лицо, в кино иначе не бывает.
— Выкинула бы ты сразу эти фотографии. А то еще увидит кто-нибудь.
Сложив губы трубочкой — то ли свистнет, то ли поцелует, — Марта долго смотрела на меня с нескрываемым удивлением. Для шутки мое замечание слишком грубо, но мне и было не до шуток. Пропитался ядом от бесконечного ожидания, чувствовал себя отверженным. И выдержал ее взгляд, даже не думая забирать свои слова обратно.
Марта взяла у меня из рук пакет и фотографии, я оставил одну и держал на расстоянии, Марта попыталась ее выхватить, но не достала. Выпрямившись, она резко протянула руку вперед, да с такой злостью, что я сам отдал ей фотографию.
— Мы сейчас поссоримся, — пригрозила она, запихивая снимки в пакет.
Я разозлил ее еще больше, поскольку кивнул, вроде как соглашаясь. При таком настроении лучше уж ссориться (до определенного предела, конечно), чем сидеть тут и дожидаться, пока она выйдет из дома. Однако Марта просто повернулась вместе со стулом к своей работе, явно не желая тратить на меня время.
— Послушай, дорогой, мне надо тебе кое-что сказать.
Ага, не зря я надеялся! Она смяла листок бумаги и бросила в корзинку для мусора.
— Я давно уже знаю: определенных тем при тебе лучше не касаться, — начала она. — Стоит только упомянуть одно слово, которое с «е» начинается, на «й» кончается, как ты впадаешь в ступор. Настоящие жертвы рвутся каждый день отмечать годовщины и выставлять пикеты в знак протеста, а для тебя главное — промолчать. Думаешь, это совсем другое, противоположное? А я тебе говорю: это та же самая необъективность. Откуда она только у тебя? Твоего отца я не так хорошо знаю, но знаю о других влияниях, которым ты подвержен: неужто они так слабы? Не ты ли мне всегда говорил, будто лагерь не смог его сломить?
Вот так примерно она говорила. И только умолкла, как сразу схватила ручку — и за работу. Судя по всему, она меня не столько раскритиковала, сколько обругала. Будь это критика, мне полагалось бы ответное слово. Ее локоток опять поехал в сторону.
Я встал, собираясь уйти. Ничего такого я не совершил, я всего лишь ворочу нос от вонючего дела, в которое она ввязалась. А что, нельзя и возразить, если опять в том самом прошлом с упоением копаются те, кто — по мне — просто мародеры? А что, надо рукоплескать любому дерьму, если у тебя родители сидели в лагере?
Пока я шел к двери, Марта успела спросить, куда это я. Только я взялся за дверную ручку, как бровки ее полезли вверх. А я сказал, что впредь пусть она выступает с обвинениями тогда, когда у нее найдется время выслушать и мои оправдания. Она бросила ручку на стол, повернулась и поглядела на меня с любопытством.
Всего-то и руки протянула, а я остановился. Всего-то и пройти два-три метра — и я в ее руках. Усадила меня к себе на колени, и я не сразу сориентировался, потому что в таком положении еще не бывал. И шепнула мне на ухо:
— Ну, давай, оправдывайся!
Долго тянулось время, и не было на свете ничего прекраснее ее объятий. Вот первая разумная мысль, на которой я себя поймал: «Кто, как не Марта, заслуживает кротости и нежности с моей стороны? Она ведь не затем меня целует, чтобы загладить свою ошибку. Только любовь на такое способна, только любовь».
Снова раздался стук, но Марта не позволила мне встать. На сей раз дверь была не заперта, но Рахель Лепшиц ждала за дверью. Марта держала меня так крепко, что мы упали бы оба, если б я попытался высвободиться. Она крикнула: — Что ж ты не заходишь? Сцена разыгрывалась за моей спиной, и я скорее умер бы, чем обернулся. Одну мою ногу Марта зажала коленями, как тисками. В комнате воцарилось молчание, а потом Марта что-то мне прошептала, по-моему, слово «самообладание».
***
Может, мне и не хочется этого признавать, но парень я покладистый. Недовольство мое выражается обычно в плохом настроении, а не в поступках. Притом люди, способные на протест, мне нравятся больше покорных, я никогда не сомневался, что однажды стану таким же. Одна беда: мне не с чем бороться в нынешней моей жизни.
Мысль о восстании против семейства Лепшиц смехотворна, я сам помру от жалости, а главное, ничего не выиграю. А против кого мне выступать в борьбе за жилье? Во враге должно быть что-то вражеское, враг вообще должен быть видимым, а то начинаешь вслепую молотить кулаками вокруг себя. Надеюсь, в университете дело пойдет лучше, уж там найдется кому оказать сопротивление.
Нового жилья и на горизонте нет, но картонными коробками я запасся. Как приятно уже сейчас хлопотать о переезде, хоть чуточку вдохнуть ветра перемен. И не надо бояться, что тайна раскроется: или Марта уже посвятила в нее родителей, или я при случае сделаю это сам.
Картонки мне нравятся больше чемоданов и ящиков, вещи по картонкам распределять удобнее. Впрочем, переезжал я только раз в жизни. Хорошо бы каждый предмет уложить в отдельную картонку.
Большую часть моих вещей я тогда запаковал не сам: Марта, Хуго Лепшиц и еще какой-то блондин, которого я с тех пор никогда не видел, набили под завязку все упаковки, предоставленные фирмой. Правда, Лепшиц то и дело спрашивал, надо ли брать с собой ту или иную вещь, а я на все качал головой, пока Марта не попросила его оставить меня в покое. До сих пор я ничего не хватился, но это чистая случайность. У нас в подвале они нашли ящик из-под угля на колесиках, затащили его наверх и сложили туда все бумаги. После переезда он отправился опять-таки в подвал, в новой моей комнате места не было. До сегодняшнего утра ящик так и стоял у Лепшицев внизу, но теперь я, прокатив его по двору, занес наверх.
Распределяю содержимое по четырем коробкам: бумаги отца, фотографии, мои бумаги, прочее. Мои бумаги — это справки, квитанции и несколько писем, в основном от Эллы. А школьные дела, то есть зачитанные учебники и исписанные тетрадки, относятся к пятой категории — к мусору.
Несколько секунд я задаюсь вопросом, не стоит ли начать новую жизнь с объявления мусором всего этого ящика с его содержимым. Но нет, это не выход, это как раз продолжение старой жизни. Тем не менее я не принялся читать отцовскую почту, не взялся рассматривать его фотографии и долго еще не возьмусь.
Вдруг мне попалась тетрадка, в которую я переписал данные из записной книжки надзирателя за несколько дней до смерти отца. Удивительно, с чего это я стал перелистывать именно эту тетрадку, по виду ее не отличишь от остальных. Хепнер, Арнольд Герман, цвет глаз: серо-голубой.
Тут я вспомнил и про бумажник, спрятанный в шкафу. В этой квартире я лишь однажды держал его в руках: когда прятал под бумагу, которой выстлана полка. В сомнамбулическом состоянии я достал его дома из ящика отцовского письменного стола, единственный предмет из наследства, которому нельзя было попадаться на глаза моим помощникам. О нем-то я и забыл, о ужас, я запросто мог бы оставить бумажник тут при новом переезде.