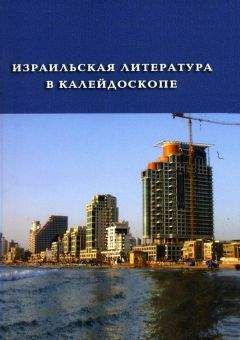— Сташек, — мой голос снова надломился, — что нам делать?
— Что значит, что нам делать? — Его голос гремел, пересекая океан, разрываясь в моем ухе. — Наша Рохале выходит замуж! Мы устраиваем свадьбу!
В последующие дни я готовлюсь к свадьбе моей старшей дочери. А по ночам меня одолевают кошмары. Снова и снова я вижу змейки крови, ползущие в ухо человека, лежащего на полу барака номер три. По утрам я с красными глазами блуждаю по улицам, словно лунатик, иду купить себе новые туфли, отдать в сухую чистку костюм, который одевал на свадьбу младшей дочери, высматриваю в витринах праздничную рубашку. Вечерами я обхожу дома немногих друзей и вручаю им приглашение на свадьбу, извиняясь за его простоту. Друзья пристально смотрят на меня, и я пугаюсь, словно они могли прочесть мои мысли. Действительно, одна из женщин говорит:
— Ты волнуешься, а? Счастлив? Это видно по твоим глазам.
Дочь и ее жених заняты, и я рад, что не должен встречаться с ними. В шабат, за две недели до свадьбы, дочь готовит праздничную трапезу и приглашает родителей и сестру жениха, чтобы познакомить их со мной. По телефону мы договариваемся, когда ее жених заедет за мной, чтобы отвезти на их квартиру. Но силы мои иссякают. За два часа до того, как он должен был выехать с места стоянки, я извиняюсь перед ними по телефону, объясняю, что уже в течение некоторого времени чувствую себя неважно, но не хотел их волновать. Рахель посылает мне по телефону поцелуй, заставляет меня пообещать, что завтра я пойду к врачу, обещает сберечь для меня фруктовый компот, приготовленный по маминому рецепту. Я со вздохом облегчения кладу трубку. Хочу видеть только Сташека.
Сташек приехал за день до свадьбы. В телефонном разговоре мы условились, что я не буду ждать его в аэропорте и что он приедет ко мне на такси. Я почувствовал его приближение издалека, как собака, которая была у нас, когда дочери были маленькими, когда открылась входная дверь дома, четырьмя этажами ниже моей квартиры. Я ждал его в дверях, и когда он подошел, мы обнялись и долго стояли там, как прикленные друг к другу, не произнося ни звука. Устав от перелета и путаницы во времени, он спал до самых сумерек в комнате, которую называл своей, а вечером безапелляционно пригласил меня в кафе, в котором мы сидели в прошлый раз и смотрели на лодку с развевающимся на ветру зеленым флагом, плывущую параллельно берегу.
То кафе мы не нашли и посидели в другом, большинство посетителей которого составляли старики из соседнего дома престарелых. Лодок в море не видно было, и почти все время мы глядели друг на друга. Мне уже шестьдесят девять, а Сташеку — семьдесят два. Большую часть жизни мы прожили, и океан разделяет нас, и все-таки нет на свете человека ближе мне, чем он. И жена моя, Милка, которую я не переставал любить и после ее смерти, и дочери не могли занять в моем сердце место, сохраняемое для него. С течением времени наши силы убывают, а союз между нами обоими все крепнет.
— Трудно тебе одному? — спрашивает он.
— С одиночеством я справляюсь, тяжело без Милки.
— Вы отлично жили вместе, — мне кажется, что я слышу в его голосе нотку зависти. — Этого мне не пришлось испытать в своей жизни.
— Но твоя жена…, — лепечу я.
— У меня было много женщин, — он грустно улыбается. — Всегда было — ты знаешь.
— Да…
— Я и в Милку был немного влюблен — сейчас уже можно сказать об этом. После войны.
Кусок торта застревает у меня в горле, а он видит выражение моего лица и улыбается:
— После войны было легко влюбиться.
Внезапно какое-то отчуждение промелькнуло между нами, и испуганный, я сказал:
— У меня к тебе просьба, Сташек.
— Ну, послушаем.
— Я хочу, чтобы мы вместе купили двойную могилу в Израиле.
— Но Милка была твоей с самого начала, чтобы у тебя не было никаких дурных мыслей на этот счет.
— О чем ты? Какие у меня могут быть мысли?!
— Милка была только твоей, но Леяле и Рохале были чуточку и мои, это так. В Америке, когда, бывало, меня спрашивали о детях, я говорил, что у меня еще две девочки в Израиле.
— Ты не слышал, что я тебе сказал? — Я не знаю, что делать с его словами о Милке.
— Слышал.
— Я сказал, что хочу, чтобы меня похоронили возле тебя.
— Что за разговор ты завел, — выговаривает он мне громким шепотом. — Рохале завтра выходит замуж, а ты — про могилы!
Той ночью впервые за долгое время я заснул моментально. Мы не говорили о Фельдмане до конца вечера, но дух его витал рядом. Перед тем, как окончательно проснуться, укрепленный близостью Сташека, я подумал: «Ведь может случиться, что сходство было лишь в моем воображении: широкие скулы, ухо — может, обман зрения.» Эта мысль завладела мной, я взял телефонную книгу и поискал там фамилию «Фельдман». С облегчением увидел я множество строчек с Фельдманами и вернулся успокоенный к кровати: может, и вправду в Израиле живут десятки тысяч Фельдманов, может, впрямь нет сходства, кроме как в моем ищущем взгляде. «Завтра, — обещаю я себе, — завтра я это узнаю. Узнаю по выражению лица Сташека во время свадьбы».
И назавтра, поверх головы моего зятя, мы придирчиво следим друг за другом. Исчезнувшие обручальные кольца обнаружились в конце концов в чемоданчике Джеймса Бонда в машине моего зятя, и он разражается смехом, когда его друг возвращается с поднятыми руками, в одной из которых ключи от машины, а в другой — коробочка с кольцами. Поверх голов компании смеющейся молодежи мы видим, словно глядим в зеркало, неясные лица друг друга, страдающие глаза. За кошмаром, рвущимся из глаз Сташека, я вижу Фельдмана из Ченстохова: вот, как в пленке, очень медленно отматываемой назад, поднимается над полом барака номер три и встает на ноги призрак, отряхивает с одежды пыль, голова опущена и из ушей капает кровь, омывая лицо и волосы, пропитывая воротник рубашки и куртки; сломанные ребра необъяснимым образом соединяются, осколки разбитого черепа собираются вместе, раздробленный затылок составляется в единое целое. Он надевает носки, туфли, застегивает ремень, одевает костюм жениха. Затем обнимает мою Рахель в очень простеньком платье невесты.
«Это невозможно, — говорю я себе и смотрю на руку Фельдмана, обнимающую талию моей дочери. При этом я ясно вижу дубинку, покачивающуюся в его ладони — ведь я же убил его собственными руками!» Дубинка перешла из рук Готека к Цыгану, от него — в руки Сташека, а из них — ко мне. Каждый из нас по очереди ударил ею Фельдмана и передал ее дальше, в соседние руки, которым уже не терпелось размахнуться обструганным, деревянным колом, и так трижды или четырежды по кругу, пока череп человека у наших ног не треснул, как арбуз, и он перестал трепыхаться. Каким образом он вновь начал расхаживать? Я усиленно моргаю. Почему он опять крутится, спина выпрямлена, тело целое, крепкий затылок? Пальцы на моей руке сгибаются сами по себе, возвращается издалека страстное желание, переполняет меня — его смысл мне известен: вот мои ногти приближаются к шее, прорываются через кожу, разрывают связки, мускулы, артерии, словно сухие ветки, раздробляют кости, проникают до сердца.
Тошнота поднимается к горлу, и я бегу в уборную и выблевываю в унитаз свою душу.
Я слышу вдали ликующую мелодию оркестра, споласкиваю над раковиной лицо и вижу Сташека, стоящего на часах у двери. На его плечах большой талит из Америки, в одной руке два бокала, в другой — бутылка. В сверкающем зеркале отражается мое полное ужаса лицо, и перед Сташеком словно лица двух близнецов. Мы молча смотрим друг на друга.
— Скажи что-нибудь, Сташек, — прохрипел я.
— Что я могу сказать? Б-г смеется над нами.
— И что это за смех?
— Которым он смеется! — Сташек взрывается, взмахивает передо мной бокалами и бутылкой. — Я, между прочим, внимательно посмотрел на твоего зятя.
— Ну?
— Приятный парень.
— Ну и что же?
— И он любит твою дочь.
— Но кровь… Это та же кровь… Что мне делать с его кровью, Сташек?
Как будто я произнес секретный код… Я вижу, как Сташек меняется в лице. Его широко раскрытые глаза прищуриваются, плечи расправляются, он ставит бокалы и бутылку на пол и через мгновение он снова возвышается надо мной — выше меня на полголовы, и вот уже моя голова между его ладонями, будто и не прошло почти пятьдесят лет с тех пор, как мы стояли так же в последний раз, и я слышу его голос, чистый и вздымающийся в крике мольбы:
— Какое нам дело до его крови?! Та кровь похоронена там, где она должна быть похоронена. Здесь у людей кровь Израиля. У твоих внуков будет твоя кровь и кровь Милки. А теперь возьми, — он наливает вино из бутылки в два бокала и один протягивает мне.
— В будущем году, Б-г даст, я вернусь сюда к брит-миле. Сейчас мы должны поблагодарить Его за то, что Он довел нас до этой минуты. Говори вместе со мной: «Барух ата Адонай …»