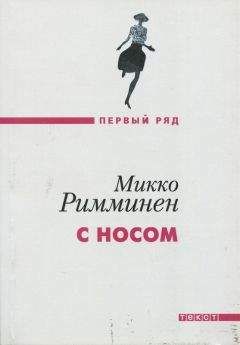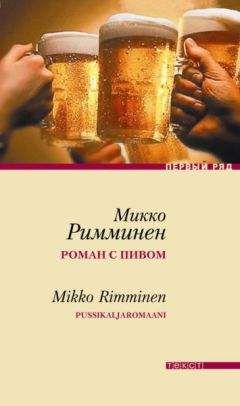И уже было невозможно избежать всей этой Керавы, Керавского шоссе, кольца, ведущего в центр города, вокзального туннеля, густых перелесков с серыми коробками многоэтажек, последних поворотов. Я бы и дальше охотно перечисляла все эти разношерстные промежуточные объекты, но мое время вышло: вот я уже на месте.
Воткнула машину в пустую клеточку на парковке, вылезла, мокрый снег пошел сильнее, я направилась к двери подъезда, поднялась по ступенькам и неожиданно оказалась на лестничной площадке между квартирами Йокипалтио и Ялканенов. Вот тут-то все и началось.
Последний пролет я поднималась настолько погруженная в себя, что заметила всех этих людей только на самых последних ступеньках. Повернуть назад уже было невозможно, пришлось идти дальше. Праздник, думала я, праздник, черт, а я ничего не купила, никакого подарка, как же глупо, бессмысленно и до рези в животе неловко, и без того такая каша заварилась со всеми этими подарками, а теперь вот еще посреди кучи людей стоять, словно идиот, а ведь кого-то там надо будет поздравить, пожать руку и вручить этот проклятый подарок. Охватил даже секундный порыв просто достать из сумки что-нибудь, не важно что, вот вам подарочек.
Так я и проталкивалась сквозь людскую массу, без подарка, проталкивалась и проталкивалась, и казалось, что толканию этому не будет конца, и вот так, под грузом тихого, животного страха, я приблизилась к двери конечно же Ирьи. На самом деле людей на площадке собралось не больше десятка, часть из них дети, а из детей часть совсем груднички, но все равно это было ужасно, все это, когда никому не осмеливаешься смотреть в глаза и все равно киваешь туда-сюда, сопровождаешь кивками эти «здрасьте» и «пока-пока» и издаешь странные нечленораздельные звуки, вылетающие почему-то вместе со словами; и, даже заметив в дверях троицу головопреклоненных Ялканенов, я почувствовала, что мне невероятно тяжело повернуться в их сторону, без подарка и особенно в окружении нарядной, таращащейся толпы, да еще какой толпы, ах Матерь Божья, все в темном, напряженные и какие-то страшно серьезные.
А потом вдруг, не знаю даже как это и назвать, позднее зажигание, что ли, до меня наконец внезапно дошло, что события последних двадцати секунд я воспринимала категорически неправильно. Это был ни с чем не сравнимый ужас, кто знает, в который раз за столь короткий отрезок времени он парализовал меня, при этом все предыдущие ужасы никуда не делись, а только усугубили этот последний. Он был вызван теперь, поди знай, сколькими причинами, но прежде всего, конечно, тем, что здесь, у дверей Йокипалтио, застыв словно соляной столб, я вдруг поняла, что все эти люди вокруг в абсолютной, нереальной, невыносимо гробовой тишине и вовсе не таращатся, а напряженно смотрят — кто в потолок, кто на нос своего ботинка, а кто вообще неизвестно куда.
Под конец пришлось-таки признать, что я вовсе не пробиралась сквозь галдящую праздничную толпу, а столкнулась с чем-то весьма и весьма серьезным.
Одеты все и правда были очень торжественно, мужчины в костюмах, женщины — у одной маленькое черное платье, у другой более пышное и помпезное, а потом, все эти дети, особенно малышка Ялканен, она выглядывала у мамы из-под мышки, наряженная в кружевное платьице, однако вид у нее был такой же серьезный, как и у мамы. Где-то рядом с ними занозой в нижнем уголке глаза саднила белая голова — худой парнишка, одетый в большой не по росту свитер такого цвета, который больше напоминал острое воспаление, чем ягодный мусс. Я вспомнила, что видела его в этом же самом подъезде, вспомнился и вопрос: с вами все в порядке?
Нет, не в порядке. Ничего не в порядке. И откуда оно только взялось, это мучительное не-в-порядке, но вызвано оно было, скорее всего, тем, что остальные люди на площадке, эти темные фигуры, да, точно, тут нельзя ошибиться, были полицейские.
На секунду в глазах потемнело.
Странно, но первое, что я почувствовала, очнувшись от шока, вызванного присутствием полицейских, был витавший по подъезду запах моющего средства, настолько сильный, что казалось, будто он даже волнами отражается от стен. Не знаю, что особенного было в этом запахе и связан ли он со всякими гостиничными воспоминаниями или еще с чем, но какой-то отдел мозга тут же стал конструировать неимоверное количество кошмарных вариантов, относящихся как к ближайшему прошлому, так и к будущему, в то время как в другой части черепной коробки наперекор здравому смыслу рисовались безумные картины будущего, где я, например, лежу в шезлонге под лучами жаркого южного солнца, потягивая через соломинку сладкий и бархатистый напиток, переливающийся всеми цветами радуги, а вокруг меня бегают улыбающиеся друзья, Йокипалтио, Ялканены и все их потомство, и сын мой тоже там, под пальмой, с красным лицом и белым пузом, смакует толстую сигару и нашептывает что-то интригующее какой-то красотке и ее лукавой подружке.
Потом раздалось резкое «хлоп», словно лопнул мысленный пузырь. И когда я смогла наконец сфокусировать взгляд, то заметила на щеке у вежливого мальчика остатки жевательной резинки примерно такого же цвета, как его свитер.
Очень быстро в сознание вернулись и все остальные люди, серьезные, празднично одетые гости и полицейские, выделяющиеся на фоне толпы, как ягоды посреди поля. Их было двое, полицейских. Старший смотрел сурово из-под густых бровей, молодой, светленький, с ежиком на голове, был похож на печальную перевернутую грушу. И когда я услышала голос, доносившийся со стороны дверей Ялканенов, который был так привычно неузнаваем и до неузнаваемости привычен, что пробирал до самых костей, и поняла, что он определенно имеет отношение ко всему происходящему, то попыталась как можно быстрее, но с максимальным достоинством повернуться к двери Ирьи, однако умудрилась при этом очень неестественно вывернуть колени, после чего так и застыла в странной позе: лоб и колени оказались в дверном проеме, левая рука зависла на звонке.
— Эй, — сказал кто-то почти шепотом. Я повернулась на голос и оказалась к нему как бы в пол-оборота, глаза готовы выпрыгнуть из орбит. Они все уставились на меня, все эти люди вокруг, равнодушно, но в то же время как будто ошарашенно. Не зная, что делать, я попыталась взглянуть на них из своего неудобно вывернутого положения. Нос все еще мешал, но сейчас уже был не такой огромный и не загораживал от меня окружающий мир, но я заметила, что, как только я о нем вспоминала, он всегда оказывался в поле зрения.
— Неужели ты хочешь туда войти? — прошептала наконец Мари. Ее влажные глаза обрамляла краснота.
Я открыла рот, но извлечь из него ничего не сумела, хотя, если быть точной, там вообще ничего не родилось, ни на выходе, ни на входе, даже вздоха. Но я все равно пыталась что-то произнести, разевала рот, ведь надо было как-то объяснить свои намерения, сказать хоть что-нибудь, в вопросе Мари было столько удивления, конечно, ведь у них праздник, а мое топтание под соседской дверью выглядело, по меньшей мере, весьма странно, не иначе. И все смотрели на меня.
А потом, пока я пыталась выдавить из себя что-то вербализованное, моя рука нажала на кнопку дверного звонка, утопив ее буквально на четверть глубины, так что звонок издал несмелую, но в данных обстоятельствах похожую на церковный перезвон трель. И в тот же самый миг, когда звонок подал голос, за дверью послышался вначале грохот, а следом мужской рев, затем дверь резко распахнулась и на лестничную площадку выскочила, нет, скорее даже выпала Ирья, у которой было багровое лицо и изменившиеся до неузнаваемости глаза. Ничего не оставалось, как принять ее в объятия, Ирью, не думаю, что она искала именно моих объятий, просто я подвернулась первой на ее пути, и теперь она висела на мне, и было видно, что она явно не в себе, она ревела и взвизгивала, плотно сжав губы, и это было ужасно, это не укладывалось в голове, но попытаться понять все же стоило, и прежде всего я, конечно, подумала на мужа, что это он разбушевался, из-за вынужденного отпуска совсем сошел с ума и, может быть, даже ударил, что же еще. Но сначала надо было прижать к себе Ирью, казалось, она вот-вот упадет, вырубится, как сказал бы мой мальчик, и откуда только взялась эта мысль, не знаю, но как только я стиснула объятия еще крепче, она, едва смогла открыть рот, тоже произнесла «мой мальчик».
Еще она смогла выдохнуть что-то очень невнятное про несчастье, но потом силы ее покинули, и она осела у меня на руках точно так же, как я всего минуту назад припала к двери, то ли вися, то ли опираясь в своем бессилии. Я поддерживала ее, как могла, из последних сил, надо сказать, и в этот момент к нам подскочили, тяжело дыша и тихо причитая, соседи, знакомые, полицейские, и теперь уже поддерживали нас обеих. Когда молодой полицейский вцепился мне в руку, я на миг ощутила какой-то животный страх, вызывающий дрожь, но потом в заботах и волнениях страх куда-то улетучился, и, поскольку я по-прежнему не понимала, что происходит, из меня стали сыпаться вопросы: что такое, что случилось, какое несчастье, что за мальчик, и, когда я уже в пятый раз для верности переспросила, что за мальчик, Ирья, находившаяся до этого словно бы без сознания, а соответственно и не плакавшая, вдруг вздрогнула и снова сказала «мой мальчик».