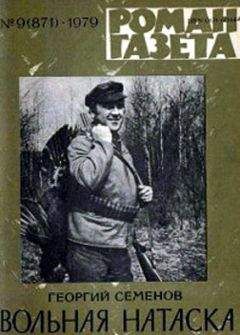Обладая способностью легко уживаться с людьми, Верочка Воркуева без особого труда заслужила доброе к себе отношение и в издательстве, точнее сказать, в иностранной редакции издательства, в которой она год спустя после окончания университета стала работать. Поступить в это издательство даже на должность младшего редактора было очень сложно, но ей помог дальний родственник отца, имевший кое-какой вес в этих сферах, которого Верочка совершенно не помнила, хотя отец и уверял ее, что на похоронах бабушки он был и она должна его помнить.
Но Верочка не могла вспомнить, хотя у нее и сложился образ «благородного» покровителя, которому она готова была поклониться в ножки за помощь, но не сделала этого, увидев маленького, лысенького, с двумя белыми волосиками, розового человечка, который ни с того ни с сего сам поцеловал ее руку, сказав при этом что-то о воркуевской породе, о селекции, о прогрессе, то и дело поглядывая на Верочку жирненькими глазками старого ловеласа.
Благодетель бесследно исчез с горизонта, а Верочка Воркуева прижилась на новом месте, и ей даже странным уже казалось, как это она могла когда-то жить без новых своих друзей; без стеклянного шкафа, сбоку от которого она сидела за столиком, приклеив под стекло шкафа черную копирку, служившую ей чёрным зеркалом; без «девочек», как она называла новых сотрудниц, очень приятных и умных женщин, следящих за модой, за новинками литературы и снова за модой, но и за всеми событиями в беспокойном мире, хотя опять все-таки за изменчивой модой; как могла она жить без Венечки Шубина, который с первых же дней коршуном набросился на новую «девочку», и Верочка, обмирая душою, замечала, как он приводил своих приятелей из других редакций полюбоваться новенькой, «случайно» знакомя их с ней, хотя милый этот Венечка, которого про себя она прозвала «гребешком» за его петушиные манеры и высокую прическу золотистых волос, был, конечно, отвергнут со всеми его ухаживаниями; как могла она обходиться раньше без ворчливой справедливости заведующей редакцией, обожавшей людей, которые умели жаловаться на свое житье-бытье без нытья, тайно презирая в людях самодовольство, это величайшее грехопадение, и любившая потолковать со своими подчиненными «за жизнь»; как она могла жить без всего этого, без сыроватых и рыхлых «чистых листов» новой книги, без кропотливого вычитывания текста, которое доставляло ей одно лишь удовольствие, хотя именно за эту работу она и получала деньги, — как жила на свете без всего этого — она теперь и представить себе не могла.
Кстати, в редакции ее сразу же все стали называть не иначе как Верочкой Воркуевой, хотя никто не подсказывал людям это ласкательное образование…
Она же так полюбила новых своих друзей, с такой восторзкенностью преклонялась перед ними, что и обидеться-то ни на кого из них не могла, даже если с ней обходились порой без должного уважения и такта… Она словно бы чувствовала и сознавала, что единственной защитой ее пока была только добросердечная улыбка и лишь в некоторых случаях выражение печального и досадного недоумения: за что?
Правда, этого оружия было маловато, чтобы с достоинством защитить себя в особо сложных ситуациях, но их пока что у Верочки не было, и они, эти сложности, как будто бы и не предвиделись. Лишь однажды доведенный до отчаяния. «гребешок», который со временем потерял всякую надежду на «оккупацию новой державочки», как он называл свои любовные предприятия, сказал ей, отбросив лоск и галантность: «Вы были бы совершенно неотразимой женщиной, Верочка, если бы осмелились изменить хоть разочек мужу. Пока же вы полуфабрикат, сырая котлета, что-то несъедобное, извините…» — на что она сразу почему-то не обиделась, не нашлась что ответить, хотя вся оцепенела от предвкушения бешенства, но промолчала, а потом уже было поздно.
С тех пор у нее установились с Шубиным довольно сложные отношения — она лишний раз улыбалась ему, а он лишний раз самым изысканнейшим образом отвешивал полупоклон: ронял голову на грудь, руку к сердцу и замирал, не смея поднять очей своих.
Кстати, когда ее повысили в должности, она не сразу сказала об этом мужу, решив те лишние деньги, которые она стала теперь получать, скрыть до поры до времени от него. И в первую же зарплату с заколотившимся от волнения сердцем припрятала довольно внушительную разницу, словно бы украла ее у себя.
Но тщеславие победило. Она по телефону позвала друзей, купила по дороге домой вина и закусок, а когда чуть позже обычного вернулся с работы муж, стол был накрыт, Верочка бросилась Тюхтину на шею и, целуя, стала восторженно приговаривать:
«Вот, вот, вот! Видишь! Это я еще не все истратила… У меня еще немножко осталось! Я теперь буду получать на целых двадцать шесть рублей больше. А сегодня мы гуляем! Вот!»
Тюхтин тоже очень обрадовался прибавке и, поздравив, сказал:
«А что я тебе говорил? Я говорил, ты у меня отличный стрелок! Ты принесла сегодня еще одного кабана. Это уже совсем хорошо! Молодчина! В этом лесу не так-то просто подстрелить кабана! Особенно лишнего! Ах ты моя добытчица! Поздравляю от всей души! Как это тебе удалось?»
Обычно гости сами приносили что-нибудь выпить, но на этот раз Верочка Воркуева строго-настрого запретила это делать, и Тюхтин с ней согласился.
За столом были и родители. Олег Петрович рассказывал о ночном бое, о том, как он со своей ротой выбил немцев из окопов, налаживая оперативное взаимодействие наших частей, в расположении которых остался клин, занятый противником. «Выполнили задачу, — говорил он, поблескивая глазами. — Потерял четверых в этом бою, докладываю, а мне говорят: „Плоховато…“ Ничего себе плоховато! Ночной бой! Не поймешь, где кто, пули трассирующие, суматоха… Четверо погибли в бою, а мне „плоховато“ — вместо орденов-то… Вот так было… Это все равно что, знаете, партийного работника не хвалят. Помалкивают — значит, хорошо работает, а в основном поругивают… Так и мы, когда воевали… Редко хвалили… Я даже и не помню, честно говоря, чтоб меня командир похвалил. Не за то воевали! Так и партийный работник не за похвалу работает, а за совесть».
Его вежливо слушали, а дочь все время старалась отвлечь его от войны, но у нее ничего не получалось.
Поздно вечером на кухне он говорил своему соседу, с которым немножко добавил втайне ото всех: «Мы с тобой, Андрюша, военные люди. Военные не те, что сейчас в новеньких формах щеголяют: они войны не знали! А те, что в штатском ходят, как мы с тобой… Мы настоящие военные! А те еще не военные, они только форму военную носят!»
И сосед соглашался с ним, хотя пытался уточнить:
«Воевать они не воевали — это точно… Но и то верно, случись что — им первым воевать. Мы с тобой вряд ли пригодимся… Не дай бог им тоже, конечно…»
«Я не о том, Андрюша, дорогой! Я говорю, мы с тобой военные. Истинные военные! Нас с тобой не на полигонах учили, верно! Мы в настоящем бою науку эту постигали… Ну так кто же, по-твоему, военные — мы или они? Военный-то от слова „война“. А если у них войны не было? Значит, они военнослужащие, а мы с тобой истинные военные люди, бойцы…»
«Да я-то какой боец! — возражал ему сосед. — Ты — это верно, боец».
Так бы они до утра проспорили, если бы Анастасия Сергеевна не увела своего Анику-воина, напомнив ему о завтрашней работе.
Ах апрель, апрель — заиграй овражки! Сколько прохладного солнечного ветра, сколько тихих пасмурных денечков, когда снег тает, как пена, когда размягченная половодьем земля чернеет непрочным и зыбким островком среди толкущихся всюду мутных вод, среди шума весеннего мироздания, когда в небе текут стаи перелетных птиц, а над разлившейся Тополтой, над глинистой ее хмуростью, над затопленными кустами ранним утром купаются в голубом воздухе селезень-чирок с серенькой уточкой. Она улетает, а он, в брачном наряде, высвеченный низким еще солнцем, догоняет ее, одурманенный страстью, скользит в голубых потоках утренних лучей, поблескивая ярким оперением, зелеными зеркальцами на острых крыльях и точеной головкой, врезанной в небо.
В полях бормочут тетерева, разжигая шипеньем тлеющие свои страсти, забываясь в драках, чернея головешками в желтой стерне, над которой вдруг проскользнет в стелющемся полете пестрая тень голодного ястреба. И в треске, в мелькании черно-белых крыльев забьется на стерне, теряя перья, потащит на своей спине ястреба сильный петух, чудом вырвется из когтей и, куцый, помчится над полем к лесу, все убыстряя лет. А ястреб кинется вдогонку за упущенной добычей, теплая кровь которой уже обагрила его когти, но отстанет и долго будет кружить над лесом, в котором скроется черный петух, оставивший свою лиру на току — груду атласно-черных, гнутых перьев, пушистое белое подхвостье.
Умолкнет хлябкое, стернистое поле, над которым все с той же нежностью и безмятежностью будут петь словно растворившиеся в небе жаворонки.