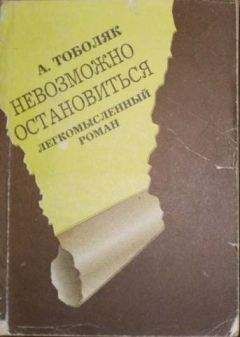— Пил? — спрашиваю я.
— Не то слово, Юра. Страстно любил водку. Больше, чем меня.
— Ясно, — говорю я, снова наполняя стопки. — Да ты и сама неплохо пьешь, — замечаю я вскользь. Защищаю таким образом бывшего пилота Вычужанина, самого себя и все мужское сословие.
— Да, научилась. Но еще держусь. Работа такая… щепетильная, а то, знаешь, пустилась бы во все тяжкие.
— Брось! У тебя дочь. Выдашь ее замуж — тогда бушуй.
— Эх, Юра-Юрочка, дружок ты мой хороший! Какого черта мы с тобой не поженились?
— Хорошо, что обошлось. Я бы тебя в могилу свел. Хорошо, что обошлось.
— Возможно. Но жалко! А давай сейчас поженимся, а? — предлагает раскрасневшаяся Елена Александровна. — Что нам стоит!
— А давай, — соглашаюсь я. — На часок-другой. Покажешь мне ту самую родинку. Только с дочерью как?
— Сама думаю. Дина! Дина! — громко зовет она.
Дверь открывается. Бледная, сумрачная девочка стоит на пороге кухни.
— Слушай, милая! — говорит ей мать. — А чего ты сидишь дома, как старушка? Такая хорошая погода. Иди погуляй. Сходи к подружкам или на видик.
— Я тебе мешаю? — спрашивает умная Дина.
— Да, ты мне мешаешь. Считай, что так. Можем мы с Юрием Дмитриевичем поговорить не таясь? Иди, одевайся.
— Я вам мешаю? — переводит Дина взгляд на меня.
— Да как сказать… — мнусь я, заискивающе ей улыбаясь. — В общем-то мама твоя права. Погода чудесная. Я бы на реку пошел… бумажные кораблики пускал бы по реке…
— Эх, мама! — вздыхает девочка.
Лена Абрамова вскакивает с табуретки.
— Что мама! — кричит она. — Что за дурацкие вздохи? Когда к тебе приходят подружки, я вам мешаю? Нет же! А ты? Ну-ка пойдем! — И, схватив дочь свою родную за руку, уводит ее в другую комнату. Дина успевает послать мне сумрачный, недетский какой-то взгляд.
Я сижу один, я курю. Меня гнетет мысль, что вот опять, как всегда, я нарушил семейное равновесие, вмешался в чужие судьбы, разъедаю, как сильная кислота, домашний относительный покой… а зачем? Я улечу, я забуду, я очень скоро забуду Лену Абрамову, на этой земле нам наверняка никогда уже больше не встретиться… так надо ли терзать памятливую, восприимчивую, угасающую, в сущности, женщину? Сволочь ты все-таки, Теодоров! Или нет? Или благо творю? — думаю я.
Но поздно уже идти на попятный. Уже щелкнул дверной замок. Уже выпровожена девочка Дина. Уже возвращается Лена Абрамова, рассерженная, растерянная — я вижу — но с дрожащей улыбкой на губах.
— Ну вот. Ушла, слава богу, — говорит она.
— Плакала? — спрашиваю я.
— А! Пусть! Переживет. Имею я, в конце концов, право на какую-то собственную жизнь? Или нет?
— Или да.
— Вот именно! А она меня терроризирует, бессовестная. А я веду себя, как синий чулок, честное слово, ничего себе не позволяю. Ну, идем, развратник! Ты все еще развратник?
— Какое там! После тебя жена — и все. Угас я, Лена.
— Ах, лгун! — приникает она ко мне, заглядывая в глаза. — А я тебя не насилую, дружок?
— Скажешь тоже! ради тебя прилетел, подружка.
— Так я тебе и поверила… Ах! — восклицает она. Это Теодоров по старой памяти подхватил ее на руки и несет, как в былые времена…
— Потолстела? Потяжелела? — сияя, допытывается Елена Александровна.
— Ничуть! куда?
— Сюда, сюда!..
…Пропустим, пропустим! Анатомическое строение Лены Абрамовой, в сущности, такое же, как у всех представительниц ее пола. Мне вообще не приходилось, надо признаться, встречать трехгрудую или двулоновую женщину, или, положим, женщину с маленьким, вертлявым хвостиком… не доведется, наверно, уже встретить и сильно при этом удивиться. А сейчас мы с Леной стараемся показаться друг другу прежними, ничуть не постаревшими. Лена любила, помнится мне, всякие гимнастические позы… шпагаты и мостики… она обожала кувырки и перевороты… а я поощрял, помнится, эти технические поиски, сам учился и ее обучал… отчего же сейчас я прошу ее:
— Ну, успокойся. Потише, Леночка, не так страстно. Я за тобой не поспеваю.
— А ты поспевай! Раньше поспевал!
Только что была подо мной и уже подпрыгивает на мне. Только что лежала лицом вверх — и вот уже стоит на коленях и локтях, призывно вскинув кверху маленький зад… а как больно хватает руками, того и гляди оторвет… Я чувствую себя беззащитным и молю:
— Полегче! Осторожней, Христа ради! Да что с тобой творится?
— А ты не понимаешь? Я же безмужняя, Юрочка. Я голодная. Ах, как я хочу! Я все время чувствую, каждую минуту. А ты?
— А я уж если завершу, то надолго.
— Старенький стал! Бедняжка! Хочешь в рот? — бесстыдно спрашивает она. (О, Лиза! В твоем бесстыдстве нет бесстыдства. Тебе все дозволено.) А от слов этой зрелой, почти сорокалетней женщины меня вдруг передергивает, и я отвечаю, заливаясь краской, как несмышленыш:
— Ну, давай. Только не кусайся, ладно?
— Не буду, не буду, дружок Юрочка! — И, конечно, делает Теодорову очень больно. Я воплю, а она сердится.
— Ну что такое? Какой ты недотрога стал!
А где же знаменитая теодоровская нежность — куда подевалась? Почему он не гладит Лену Абрамову по волосам, не бормочет ласковые слова благодарности? почему думает в этот момент… прости, Господи, и помилуй!.. о девочке Дине, тоненькой, длинненькой, бродящей неприкаянно по улице?..
— Зеркало принести? — отрываясь, спрашивает Елена Александровна. — Помнишь, как мы баловались с зеркалом?
— Не надо! — пугаюсь я. — Тогда было что разглядывать, а сейчас…
— Ага! Значит, я отвратительно выгляжу?
— Не ты, а я! Не надо. А когда она придет?
— Кто? Дина?
— Ну да.
— Эта чертовка может в любую секунду забарабанить.
— А-а! вот как! Тогда я… это самое… интенсифицирую процесс.
— Но мы же повторим, правда? Не сейчас, а ночью. Ты ведь переночуешь у меня, да?
— Если твоя Дина не выгонит.
— Пусть только посмеет!
Так она угрожает своей дочери, а я… почему я соглашаюсь остаться? Ведь ясно, что ошибся, приняв эту женщину за давнюю Лену Абрамову. Вот сейчас приходится призвать на помощь все свое воображение, чтобы выйти из состояния ступора… рисую с закрытыми глазами всякие мерзостнейшие и прекраснейшие картинки совокупления: юная девственница-египтянка и бородатый козел… я и какая-то темнокожая мулатка с венком на голове… я и Лиза… пока, наконец, не распаляю себя этими видениями и не постигаю со стиснутыми зубами, беззвучно, тот самый момент истины. И все-таки остаюсь в этой квартире, где прежде никогда не бывал, — не новой ли бутылкой коньяка прельщенный? Да нет, пожалуй. Очень жаль мне Лену Абрамову — так не хочется ей отпускать меня и оставаться наедине с дочерью. А дочка Дина не желает, ну не желает понять мать и смириться с моим присутствием. Полчаса всего-то погуляла, и вот опять — в какой раз! — заглядывает на кухню.
— Я есть хочу!
— Сейчас получишь. Ешь в своей комнате, — отвечает растрепанная мать.
— А почему не здесь?
— А потому, что здесь тебе нечего делать.
— Ты пьяная!
— Ах ты негодница! Ну-ка брысь отсюда!
— Вы пьяный, — говорит она мне.
Я встаю.
— Ладно, ухожу. Твоя взяла, Дина.
Но тут Лена Абрамова свирепо налетает на нее, выталкивает, силком уводит в комнату и тут же прибегает назад, хватая меня за руки:
— Юрочка, милый, не уходи! Ну, пожалуйста! Не обращай внимания на эту дурочку. Я ее скоро спать уложу. Я ей сказала, что ты будешь у нас ночевать.
— Ладно, остаюсь, — вновь опускаюсь я на табуретку. Пьян я уже основательно.
Затемнение. То есть на улице по-прежнему светло, хоть и поздний уже час, но хозяйка сдвигает на окне плотные шторы, чтобы создать видимость ночи, стелет мне на диване в гостиной и, обещая вернуться, убегает в спальню к дочери. Я раздеваюсь и… Да, отключаюсь на какое-то время. Но затем чьи-то руки, чьи-то губы, чье-то прильнувшее тело возвращают меня к жизни. Это, конечно, Елена Александровна, заместитель председателя окрисполкома, кто же еще! Шепчет:
— Уснула, Юра! Уснула. А ты проснись. Ну, проснись же!
— Зачем, Лена? Полежи спокойно, — бормочу я.
— Как бы не так! Ты хочешь, чтобы я заплакала? Я сейчас зареву, честное слово. Да что с тобой, Юра? Ты ли это, Юра?
— Я, Лена… но я сейчас вроде мороженого минтая… ни на что не способен… прости, ради Христа.
— А я тебя расшевелю. Вот еще новость! Прилетел к бывшей любовнице и дрыхнешь! Нет уж, дружок! Я тебе покоя не дам! — Такая безжалостная руководительница!
Зря я не ушел, поддался на ее уговоры, либерал малодушный. Если бы я знал, что дверь вот так распахнется и девочка Дина в длинной ночной рубашке возникнет на пороге… если б знать! До сих пор в ушах звучит ее крик, до озноба пробирает:
— Мама! Ты гадина! Гадина, гадина!
Лена Абрамова вскакивает с дивана — голая! — я рывком сажусь. Дина стоит в проеме двери, ухватившись за косяк, захлебывается от слез, дрожит всем телом.