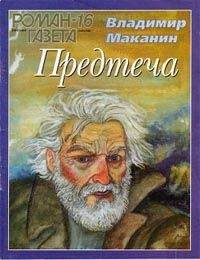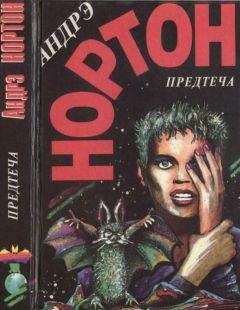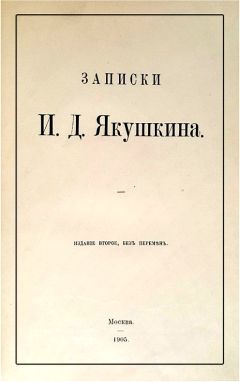— Зачем читать — я же буду их слушать.
Коляня вышел на улицу. Был закат. Закурив и приостановившись, Коляня смотрел на высокие, розовевшие от солнца башни, которые ничуть на него, Коляню, не давили, не смыкались крышами, не сосали из него кровь, и вообще ничего дурного и зловещего в них не было. Коляня жил в городе. Теперь — как все.
Пространство меж башнями, будто бы двор, тускнело, но было еще залито красным — с красными скамейками и с красными, редко посаженными деревьями. Коляня курил, расслабился. Впромельк Коляня вспомнил о детстве, потому что ему как бы подсказали: пацан выскочил из подъезда, лет семи-восьми, — с бидоном в руках. В белой маечке, худенький, пацан промчался, пересекая по диагонали красное пространство, красный газон, меж деревьями и дальше-дальше, — размахивая бидоном, летел он к квасной бочке на той стороне. Мелькнул — и не стало.
Улыбающаяся, тихая и скромная жена Люся перед сном заглянула на миг к Кузовкину в комнату (он читал). Она держала на руках грудного сынишку. Люся недавно родила, теперь детей было двое.
— Трудишься, милый? — Люся спросила негромко.
— Тружусь! — Кузовкин потянулся.
— Заварить тебе чай?
Прежде чем пойти спать, Люся еще спросила: Не слышал ли что-нибудь, милый, о Сергее Степановиче?
— Нет… Говорят: травы собирает. Никому не нужные.
Кузовкин, от чтения оторвавшийся, повел утомленными глазами: сидели на этом стуле. И на том стуле сидели. А сюда с кухни вносились табуретки; и палас не лежал на полу: палас был свернут в рулон и на нем, свернутом, тоже сидели. А тут у стены, скрестив руки, стоял смертник Дериглотов…
Кузовкин вновь приник к столу и взял цветную ручку, то красным, то черным выделяя в своих записях главное и ценное.
Сутуля спину в желто очерченном кругу настольной лампы, вечер за вечером Кузовкин уже разочаровался в Суханцеве, зримо видя несовершенство его системы, — и Якушкин, и Суханцев были позади, истина же все ускользала. Теперь был Шагинян. Ведя записи и мысль за мыслью перенимая у этих удивительных одиночек и оригиналов, Кузовкин задумывался: познание, конечно, дело великое, однако где же конец? Где истина?.. Он перебирал, складывая в стопки, тетрадку за тетрадкой, якушкинские — суханцевские — шагиняновские темные слова, темные мысли. Кузовкину казалось, что ощупью идет он по лабиринту, в некоем подземелье, где слабо-слабо брезжит далекий свет, — ощупью идет он, петляя и ошибаясь…
Вновь вошла тихая Люся:
— Устал ты… Не ляжешь ли? — Она была в ночной рубашке. Она спрашивала неназойливо, и очень мягко, и с любовью.
Зная, что душа Кузовкина далека от его ежедневной инженерской службы в НИИ, Люся никогда не отрывала его от любимого ночного дела: пусть читает. Она не посягала на его время. И уж конечно, она не заставляла его заработать в семью лишний рубль. Люся очень рассердилась, когда ее подруга намекнула, что Кузовкин мил, но это же ясно, что он с приветом. Люся рассердилась и вскоре же рассорилась с подругой. Люся не только любила — благоговела.
— Дети спят? — спросил Кузовкин, в тишине потягиваясь и хрустя плечами.
— Конечно, милый. Третий час ночи.
— Ложись, я не скоро лягу.
Люся целовала его и уходила. Ночью ей часто хотелось ласки, но она только сглатывала легкий, подрагивающий в горле комочек.
Старик, вдруг припадая к земле и ползая, выискивал травинки; он выдирал их и радостно запихивал в мешок; пес же мучился голодом.
— Сегодня, слышь, — сообщил старик, — нашел я сизый черепашник… Важная для нас трава!
Пес смотрел мрачно: пес хотел есть. Даже на льстивое и неискреннее подыгрывание человеку пес не был способен: угроза собачьего ящика и гон цепко держались в памяти.
Когда устраивали привал, старик первым делом высыпал из мешка собранные травы, раскладывая их на большой бумаге под солнцем; травы сохли — и только тут старик вспоминал о еде: давал псу и ел сам. Еда у старика была плохая: в основном хлеб. Разложив травы и перекусив, старик начинал болтать о том, что он, поднатужившись напоследок, изобретет «чай на все времена»; он объяснял, впадая в торжественную хвастливость, что будет это особое, хитроумное зелье из трав и что люди будут пить зелье ежедневно, как пьют сейчас чай или, скажем, кофе. «Да-да, — старик, поглаживая макушку, подмигнул псу, — зелье будет возбуждающим, не скрою. Но в меру. Не больше, чем кофе. Главное же, зелье будет — предупреждающим…» Пошевеливая сохнувшие травинки, переворачивая их так и этак к солнцу, старик от возбуждения заговорил громче. Пес, насытившийся, прислушался. Старик бубнил (как только произносились слова «любовь» и «интуиция», становилось ясно, что бубненье надолго), и пес перебежал в тень березы неподалеку. У пса уже была привычка. Слова эти услышав, пес тут же и быстро переходил от дремы ко сну.
Вскоре проснувшийся, он залаял. Он оскалился. В перелесках, среди мещерских мелких речушек и болот, можно было бродить много дней и человека не встретить, но иногда человек появлялся. Чувств к старику хотя и не питающий, пес лаял честно и зло, так как в настороженную минуту пес и старик были одно-единое, и пес исходил злобой, защищая свой какой-никакой мирок и свою какую-никакую сытость. Старик повернул на лай голову — человек с удочкой прошел мимо; человек, безобидный, уже удалялся.
Старик суетно заспешил:
— Ты прав, ты прав — солнце-то уже садится. Пора! Заболтались мы с тобой, — и затрясся от мелкого смеха: — Хе-хе-хе-хе…
Пес не был из верных, и когда старик, нюхом не обладавший и шагавший куда попало, ошибся и стал все более удаляться от деревни и от ночлега, пес его бросил, зная, что в конце концов старик далеко не уйдет. Пес хотел мяса — и через полчаса был в деревне. Когда-то пес сам был на цепи, что такое цепные псы, он помнил и не совался. Отыскав двор, где будки и собаки не было, он заковылял, высматривая курицу, чтобы, перехватив ее и увернувшись от палки, унести в лес. В лесу бы он часть съел, часть зарыл в землю.
Но кур рано заперли, — помотавшись там и здесь, пес прилег на расстоянии и ждал. Ночью пошел дождь. Чтобы подвигаться и согреться, пес обежал еще раз деревню. И тут собаки, днем вялые, подняли особый, настороженный ночной лай: одичавшая собака была для них волком. Оплошность осознав, пес вернулся и лежал, терпеливый, вблизи двора, весь дрожа от холода и дождя. Конечно же, старик развел где-то костер, но пока старика найдешь, либо дождь кончится, либо старик уснет — костер же будет погасший. Пес ждал. И утром не повезло. Петухи проорали, но куры не появились, пес пялил и пялил глаза на ворота — на маленький квадратик внизу ворот, откуда куры вылезают на дорогу и на белый свет.
За деревней пес быстро взял след и, несмотря на прошедший дождь, побежал за стариком, почти не сбиваясь: у старика был свой и сильный запах. Пес наткнулся на ночлег, зола в костре — холодноватая, мокрая, но свежая; пес был зол, голоден и быстро шел по следу. Старика он нашел за оврагом. Старик, сам промокший, раскладывал травы на выглянувшем солнышке — сушил, попадал в дождь и вновь сушил. Мешок старик повесил на ветру, на суку осины.
— А-а, вот чего ты хочешь! — Старик дал ему кусок хлеба, и пес сразу, с лету смял его.
Старик дал ему еще кусок, намазав маслом, это было вкуснее, но пес глотал, вкуса почти не слыша. Он и яблоко съел, он дожил и до этого. Он был сильный неглупый пес, однако сравниться с породистыми собаками он не мог: когда они гремели медалями, он гремел цепью. И родословная вся на цепи, и сам он тоже, неумелый: он даже лесной мыши не мог поймать. Поперхнувшись яблоком, он долго кашлял, чистя глотку и злобно щелкая зубами на оводов.
— Убегаешь, — выговаривал ему старик. — Не понимаешь ты человечьей любви. Но ты еще поймешь… — Старик, соскучившийся, впал в болтовню и понес, понес. А насытившийся пес отбежал в сторону и уже засыпал: слово «любовь» действовало на него как снотворное.
Свое отговорив, старик взял на этот раз верное направление на деревню, и пес бежал за ним, — они вышли на дорогу, где старик едва не попал, задумавшись, под грузовую. Пес отскочил в сторону, — грузовая гудела, потом перестала гудеть, а потом стала посреди дороги, старик же все шел и шел, пока не ткнулся грудью в радиатор. На него накричали. В машине везли молоко в бидонах; старик, заулыбавшись, попросил немного себе и немного псу. Обе женщины удивились, когда он заплатил деньги: они полагали, что из здравого ума он давно выжил. Пес жадно лакал из пластмассовой стариковской чашки, торопясь и зная, что старик забывчив и больше о еде может сегодня не вспомнить. «Ты куда идешь, дед?» — спрашивали женщины, а старик бормотал им, что травы, мол, надо собирать, пока солнце: торопиться, мол, надо, день короток, жизнь коротка. И он пошел по дороге, спешащий. Женщины — обе в белых косынках — смотрели вслед, и, лишь когда старик и его злобный шелудивый пес стали скрываться, пропадая за холмиком, женщины поехали дальше. Одна села за руль, другая в кузов, к бидонам.