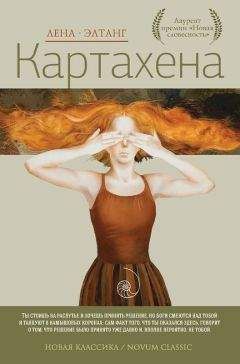Подходя к бензоколонке на окраине Аннунциаты, я уже знала, что скажу: бумажка выпала у него в раздевалке хамама, а я подняла. Никто в полиции не знает одиноких привычек капитана, он сам себе процедурная сестра и ходит в хамам только один, поздно вечером, после отбоя. Оставляет ванную в зеленых потеках засохшей грязи, а мокрые полотенца бросает на пол.
Как бы там ни было, любовная записка – это улика, доказательство того, что он был в парке в тот вечер. В гостинице все знают этот почерк, я сама находила в сестринской листочки с коротким «Е' una vera bruttura». Почему, мол, так грязно в банном отделении? Или еще суровее: è una grande porcheria! Если найденная в учебнике бумажка – это черновик, попытка изобразить женскую торопливую руку, то капитан и есть анонимный доброжелатель, вызвавший Аверичи на поляну с беседкой. В таком случае Бранка там вообще не появлялась, ей воспользовались вслепую. Но это только гипотеза. Могло быть иначе.
Допустим, у них на самом деле было свидание. А обманутому мужу настучали другие фигуранты, нам неизвестные. Но кому и для чего нужен был этот опереточный донос? Чтобы спровоцировать драку, убить хозяина и свалить все на Ли Сопру? Тогда другой вопрос: зачем капитану встречаться с любовницей на глухой поляне, если он запросто заходит к ней в кабинет в банном халате и закрывает дверь ногой? Тем более если известно, что муж собирается в Санта-Фолью до понедельника. Нет, никаких шашней у этих двоих не было. Если у них что-то и было, так это заговор.
Я слышала их пресный смех за стеной, и если моего любовного опыта недостаточно, то уж интуиция меня никогда не подводит. Не думаю, что капитан вообще склонен к галантным забавам: мчаться в темноте, цепляясь юбками за ветки магнолии, и появляться в кринолине из лесной чащи. Нет, второй вариант совершенно не годится.
Италия – это опера, а не оперетта, как многие думают. Мужчины в ней дерутся и плачут по-настоящему. Они могут сорваться и запеть высоким голосом, которого и не ждешь, а могут молча удалиться за кулисы, высоко неся кудрявую голову. Но предсказать их действия невозможно.
Все утро я просидел на обрыве с бутылкой красного, ожидая грозу, но она так и не собралась. Темно-розовое, сморщенное небо расправилось и обнажило чувствительную точку, маленькую, но золотисто-горячую. Прикончив бутылку, я решил спуститься на дикий пляж, который даже пляжем не назовешь, это пара камней и клочок невесть откуда взявшегося перламутрового песка.
Мне еще с прошлого приезда известен секрет этой скалы: на пляж можно попасть по веревочной лестнице, если знать, где она спрятана. Два железных стержня, вбитые в камни, на них закреплены канаты, переходящие в лестницу, а лестница притянута к обрыву крюками, похожими не то на корабельные гаки, не то на две правые руки капитана из книги про Питера Пена. Перекладины так плотно прилегают к камням, что нужно лечь и заглянуть под козырек обрыва, чтобы их различить. Одним словом, нужно знать, что они там есть.
Устройство надежное, если только ветер не с моря, а идти на пляж в обход, по пологому склону, – это километра четыре, не меньше. Сначала через поля, потом по болоту в низине, а потом через всю деревню. И потом еще долго пробираться по мелководью. Именно так мы попали сюда в первый раз, я помню, что нес палатку на одном плече, а рюкзак – на другом. Паола же шла за мной, подоткнув платье, с теннисными тапками в руках.
Мы поставили палатку и развели костер, а потом я пошел осматривать окрестности и нашел гранитную пещеру, где можно было сидеть, свесив ноги над водой, и веревочную лестницу, ведущую на вершину скалы. На скале росло несколько кипарисов, один из которых был странной формы и смахивал издали на кадило. Помню, что, наткнувшись на эту лестницу, я был горд собой, как археолог Вулли, обнаруживший ступенчатый зиккурат. Я показал ее Паоле, и она тут же полезла наверх, ловко продевая смуглые ноги в веревочные ступени, и, добравшись до вершины, махала оттуда рукой и звала меня к себе.
Жаль, что секрет лестницы известен не мне одному, я много раз видел, как постоялец по прозвищу Ли Сопра приходит на пляж купаться в одиночестве. В гостинице говорят, что старик прыгает со скалы как заправский ныряльщик, даже суровая Пулия от него в восторге: настоящий южанин, сказала она однажды, в таком возрасте некоторые мужчины в массажное кресло с трудом забираются.
Умная, умная, а дура. Если туда он прыгает, то как он возвращается обратно? Идет в купальных трусах через всю деревню? Или он прыгает, зажав в зубах узел с одеждой? Или сначала швыряет рубашку и брюки на пляж, а потом летит вслед за ними? Ясно, что должен быть какой-то путь наверх, лестница или хотя бы ступеньки, вырубленные в скале. Но, как все очевидное, это никому не приходит в голову.
Вероятно, Ли Сопра ходит в каменоломни и ползает по лестнице вниз и вверх просто потому, что не умеет плавать. Боится, что на гостиничном пляже его засмеют. Что это за отважный капитан, плещущийся на мелкоте!
– Не знаю, что случилось с летом в этих краях. – Клошар покачал головой, его пальцы перебирали бахрому на скатерти, заплетая еле заметные узелки. – Вот раньше было лето так лето. Народ так и рвался сюда, на побережье с десяток гостиниц построили, а в Стентино так даже посадочную площадку для вертолетов.
– Вчера мне как раз снился вертолет, – сказал Маркус, наливая в стаканы вино, – маленький желтый вертолет, описывающий круги над морем. Потом в нем что-то сломалось, он завалился набок и застучал винтом, но продолжал летать, только все ниже и ниже. Когда он упал, я испытал что-то вроде облегчения.
– Закажи еще красного. – Клошар поднял два растопыренных пальца над головой, не дожидаясь Маркусова согласия. – Теперь вертолеты богачей сюда не летают. Виданное ли дело, дожди в мае, дожди в августе. Последняя винодельня закрылась шесть лет назад, и теперь вокруг нее только канавы для дренажа и виноградник, поеденный грибком. А все потому, что сгорела часовня Святого Андрея.
– Слабоватый у вас покровитель здешних мест. Даже часовню не смог уберечь, несмотря на саркофаг с собственными мощами.
– Да не было там никакого Андрея, только палец его! Да и тот краденый. Стефания сама его откусила кусачками, когда была на молебне в кипрском монастыре, подползла на коленях и откусила. А может, и зубами откусила, с нее станется. Вот там у них настоящие мощи, а здесь-то подделка была.
– Как это подделка?
– Говорю же тебе, – клошар пожал плечами, – когда разбирали пепелище, нашли кучу обгорелых костей из саркофага, уж не знаю, зачем хозяйка велела их собирать. За каждую кость в большом доме платили по тысяче лир, так деревенские дети нанесли еще два ведра лишних, в костре нарочно обожженных.
– А пальца так и не нашли? Может, его и не было вовсе. Маркус налил себе и клошару из литровой бутыли, с трудом удерживая ее в руках. Тарелки, на которых лежал сыр, внезапно показались ему знакомыми. Он где-то уже ел из таких тарелок. Ему хотелось пить и смотреть в светлые, близко поставленные глаза человека, живущего на ржавом катере. Еще ему хотелось задавать вопросы, много вопросов, но на это уже не хватало сил. Время от времени он пытался подняться, но стены кафе тут же начинали ходить ходуном, и он снова садился на плетеный стул и подпирал подбородок руками.
– Как же мне осточертел этот дождь. – Клошар отхлебнул вина и зажмурился. – Я бы давно уехал, да не могу катер бросить. Это катер моего отца, мы с отцом и братом выходили в море каждое утро, когда я был еще мальчишкой. Он сломался в девяносто четвертом, и я пообещал себе запустить двигатель, даже если придется перебрать весь катер по винтику. Но с тех пор многое изменилось. Трудно разбирать по винтику свой собственный дом.
– А вы что же, прямо там и живете?
– Живу. Знаешь, что такое сквозные пробоины? А еще трещины, сколы, заклепки. Но я с этим справился, да что заклепки, я в кокпите морозильную камеру поставил. Пришлось продать оливковую рощу, зато теперь я куплю новый двигатель. Двести восемьдесят сил. Фирма «Меркруйзер», зверское железо.
– Не морочь приезжему голову своей лодкой, – сказал подавальщик, явившийся с чистыми стаканами. – Ты и не думал ее чинить, сколько себя помню, сидишь на борту, свесив ноги, и удишь мелочовку себе на обед.
– Это не лодка, а каютный катер, сделанный на верфи Альдо Кранки, – нахмурился клошар. – У меня в гальюне, дружок, больше тикового дерева, чем у твоей матери в семейной спальне.
– Одно название чего стоит: «Манго фанго», ешь грязь, – не сдавался cameriere.
– «Манго фанго» означает мистраль, так его называют в тех местах, откуда родом мой отец. Хотя в одном ты прав, название нужно новое придумать. Нельзя под одним и тем же именем гнить у причала и выходить в открытое море. К тому же от мистраля кровь стынет, сам знаешь.