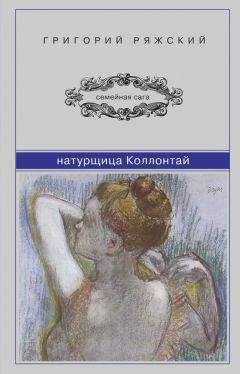И просыпаюсь.
Здравствуй, бабушка!
Я приветствую тебя, моя Шуринька, извини бога ради, что начала с этих слов не первыми — уж очень хотелось сразу же поделиться, как только глаза мои разлепились после всего этого кошмара.
Ты поняла, что это было?
Что ты об этом думаешь?
С ума схожу или это всего лишь первый зародыш моего нарушенного переживаниями воображения?
И при чём Филимон этот, давно уже мёртвый дворник с нашей бывшей конюшни?
Хоть бы ты приснилась мне когда-нибудь, родная моя, и привела в порядок все мои дурные мысли и расставила бы остальное по своим местам. С твоим умом и опытом жизни, думаю, это не составило бы для тебя весомого труда, верно?
Но рассказываю пока, как есть, как умею в силу отведённых мне умений повествовать и переживать назад в письменном изложении.
Было через год, наверно, после как проводили Леонтий Петровича в последний путь.
Выхожу после работы, отстояла больше пяти часов, нагая, с накинутой через одно плечо газовой косынкой и частичной опорой пятой точки на гипсовый куб, холодный и довольно шершавый. Руки свободно, плетьми, но с лёгким изгибом в локтях, так они просили меня, шея чуть согнута вперёд и к низу, куда устремлён и весь мой взгляд. Плюс задумчивость и облик светлой печальности. Как будто вспомнила что-то неизбежное, но готова с ним смириться. Каждый раз профессор мне на ушко трактует, чтобы лучше схватывала образ, чтобы вроде как сама в нём сколько-то прожила, вчувствовалась и тем самым обрела завершённость линий и форм для будущего учебного произведения.
Стараюсь, Шуринька, хотя, если честно, уже много лет мне это, кроме удовлетворения, не доставляет повышенного усилия. Привыкла и понимаю с лёту художественную задачу.
Знаешь, время от время приходит в голову, кем бы стала, если б не этим.
И с ужасом понимаю, что никем.
С ужасом и с восторгом.
Ужас — если б не случилось.
А восторг — что оно произошло.
Короче, отстояла, иду к трамваю.
Дождит.
А тут он подкатывает. Волга чёрная, сияет, намытая до блеска, с шофёром, сам надушенный, как отец, — только дверку отпахнул наружу, сразу потянуло изнутри дорогим мужским.
Пётр Леонтьевич, сын моего супруга, помнишь эту гниду?
Так вот, бабушка, как раз гнидой-то и не оказался на момент нашей второй с ним встречи. По крайней мере, тогда мне так показалось.
Говорит:
— Вот так встреча, Александра Михайловна! Очень рад вас видеть. Еду, а тут вы идёте уставшая. С работы?
Я:
— С работы, Пётр Леонтьевич, с кафедры. Какими судьбами в нашей окрестности?
Он:
— Да вы, может, присядете ко мне в машину, доставлю с ветерком по дурной погоде, чтобы туфельки мамины не замочить?
И смотрит выжидательно, что отвечу. А туфли те и правда от Верочки покойной остались, с тех пор ещё, когда примеривалась на её гардероб. Сели как влитые по ноге, будто одной меркой шили на нас. Так их и донашивала до упора на работу — обратно.
Стало быть, признал их, сын своей матери.
Я губы поджала, не знаю, как на этот его неприкрытый намёк ответить, чем.
А он рот в улыбку сложил, но необидную для меня, честную, выдержанную в духе миролюбия и доброты, и продолжает с вежливостью.
Он:
— Да вы не обижайтесь, Александра Михайловна, садитесь, садитесь, не упрямьтесь, я на самом деле рад, что встретились. Ничего случайного в этом мире не происходит, уверяю вас.
Помнишь, Паша ещё говорил, что даже волос с человека не падает без влияния на него судьбы и предначертанности?
Ну, думаю, по второму кругу карусель моя пошла.
И согласилась, чтобы не мочиться под дождиком.
Села к нему.
Я:
— Надолго к нам из Швеции вашей?
Он:
— Навсегда. Перевели меня в аппарат теперь, буду пока в высотке трудиться, как отец. И жду назначения первым секретарём в Куала Лумпур.
Я:
— Это где такое расположено?
Он:
— В Малазии. Давайте лучше о вас. Как оно вообще? Что на душе, рассказывайте, не стесняйтесь, видимся-то раз в сто лет в обед. Как единокровный братик мой чувствует себя за пределами родины? Всё нормально у них там, всё путём?
В тупик, если честно, поставил, бабушка.
Намекает, что мать я никудышная, пустая, отказная.
А как отобьёшься от такого? Чем?
Я ведь достоверно никогда в курсе не пребывала, какими разговорами и посланиями они там меж собой обменивались, отец с сыном — он меня, по обыкновению, от родни своей прятал на Пицунде, не желал до близкого знакомства доводить.
А оно само, глядишь, теперь довелось, если только не брать в расчёт тот наш завещательный спор по имуществу наследства. А уже подъезжаем к дому.
Я:
— Всё у всех успешно, Пётр Леонтьевич, спасибо, что интересуетесь.
И собираюсь вылезать, тормозит уже шофёр его, прямо у той лужи, где подвернулась нога, ну точно всё как было со старшим.
Он:
— Знаете, Александра Михайловна, я бы хотел, если это возможно, напроситься к вам на пару минуточек всего. Щемит меня ностальгической болью иногда, тянет в родные пенаты, я ведь рос в вашей теперешней квартире, школу тутошнюю заканчивал, с женой своей за одной партой в ней же познакомился. Не возражаете?
И смотрит так, что совершенно не допускает у себя в голове моего отказа.
Делаю улыбку, не меньше его по вежливости, и соглашаюсь.
И думаю, на самом деле, какого рожна обиды взаимные длить. Дело сделано, вещи поделены, каждый при своём, а к тому же не исключено, что и родственники теперь мы через Мишеньку моего, Мишариньку, как удачно подметил дядя Филимон. А там — кто его знает на самом деле, как оно есть.
И ещё поймала себя на мысли, что никогда про этого сына Леонтия как про свою родню не думала, просто не заглядывала в эту сторону вообще. Обретался он где-то там годами и вечностями, в отрыве от реалий жизни, списанный и неучтённый разумом вообще, как Рембрандт какой-нибудь.
Вылезаем из Волги его, лужу огибаем, в дом заходим.
И в саму квартиру.
Я разделась, чинно присела, жду развития.
Устала как собака после пластической позы.
Он ходит, воздух семейный прошлый вдыхает в себя, с расстановкой, не спеша, картины взором изучает, как будто в первый раз увидал теперь, головой мягко поводит туда-сюда, задумчиво, с теплотой и воспоминаниями.
Причащается.
Говорит:
— Не остепенились ещё, кстати?
Я:
— В каком смысле? Вы это насчёт передела собственности опять, что ли?
Он:
— Я говорю, про диссертацию не думали? Всё же сколько лет на кафедре, пора бы степень получить, нет?
Отлегло.
Я, бывает, так себя порой ненавижу, что полная идиотина, что готова сама же себя убить, сволочь такую.
Я:
— Нет, руки не дошли пока. Устаю по основному занятию. Студенты бесконечные, классы, лекции, практические занятия. Не до степеней мне, Пётр Леонтьевич.
Он:
— А можно я к вам ещё приду, Александра Михайловна? Понимаете, у нас с вами, несмотря ни на какие прошлые обиды и недопонимания, много общего, объединяющего нас по неформальным признакам, даже если откинуть тот факт, что не могу никак я мысленно расстаться с картинами из коллекции моей матери, уж больно глубоко врезались они в моё сердце, в душу мою запали до самой больной середины. По крайней мере, эти вот.
И указывает на Коровина, Бенуа и Юона Константин Фёдоровича. Всего три штуки.
И снова, и дальше вещает.
Он:
— Я ведь только потом узнал, что вы та самая Коллонтай, внучка её. Это совершенно меняет дело; если бы я знал такое раньше, я бы никогда не затеялся с дележом этим, недостойным взрослых людей. Вам сорок один, насколько мне помнится, мне тридцать девять — и это так же вполне сближает наши человеческие интересы, не находите?
Я:
— А остальные?
Он:
— Какие остальные? Вы про разницу в годах, что ли?
Я:
— Я про остальные картины. Не врезались?
Он:
— А-а, вы об этом. Все любимы, но эти особенно. В них, мне кажется, до сих пор витает мамин дух, мамин запах, мамины руки, которыми она трогала рамы, поправляла их, когда любовалась, выравнивала.
Я:
— И ещё, наверно, потому что они не псевдёж и не фуфло, не имитация и не фальсификат с пошлятиной, не чучело красоты и не сладкие слюни, как все остальные, да?
Ничего не ответил, посмотрел на часы.
Он:
— Завтра, Александра Михайловна, ближе к девяти вечера, хорошо? Раньше не выберусь, извините.
Быстро развернулся и пропал за дверь, я даже не успела никак отреагировать.
Рано в тот день спать пошла, но отчего-то в лёгкой приподнятости, что, скорей всего, обидела человека неприветливостью своей и недоверием.
Шуринька моя, смотри, ну а как должна была вести, пускай даже он ни в чём уличать меня не стал, хотя и не в чем ему, если разобрать по закону.
Но было мне как-то приятно после его ухода, победно.